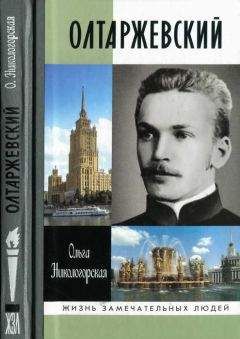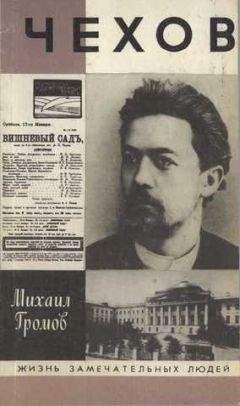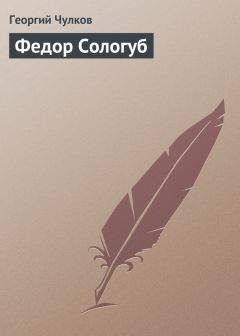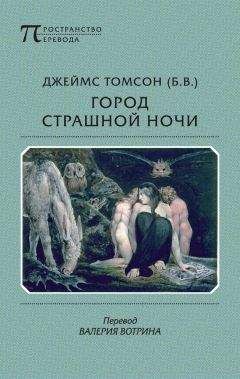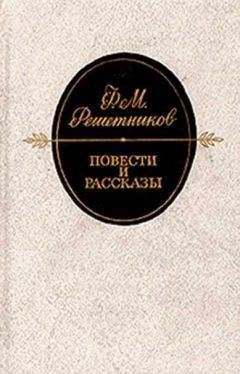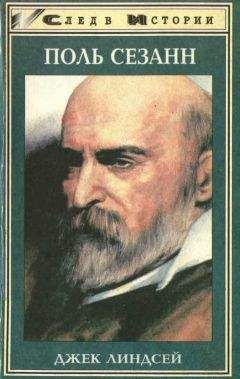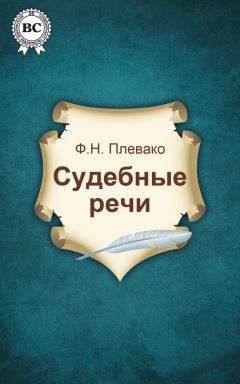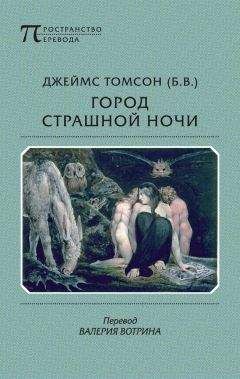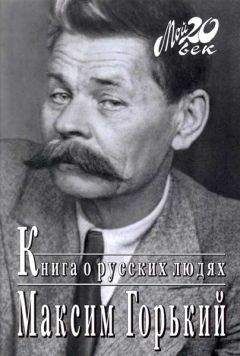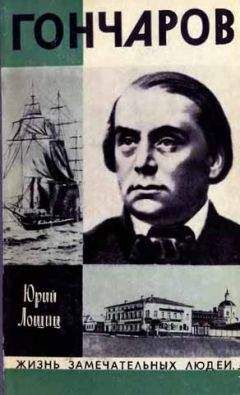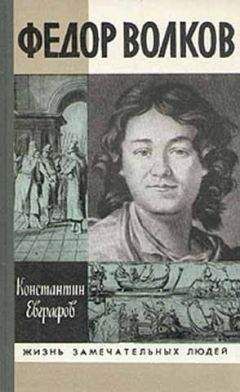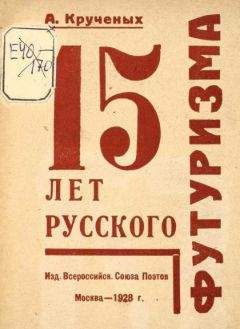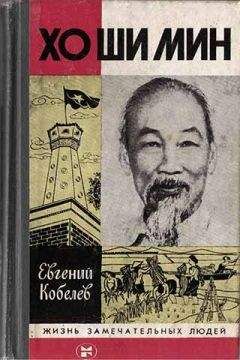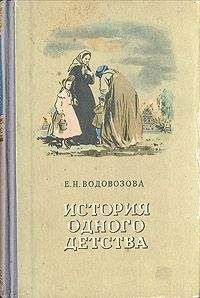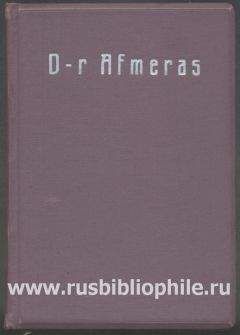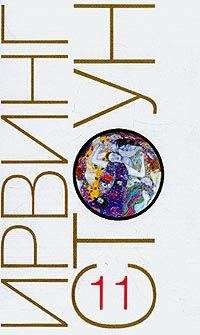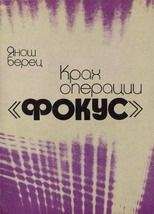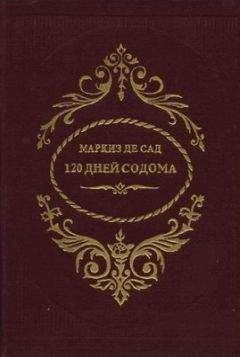Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Описание и краткое содержание "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников" читать бесплатно онлайн.
Очерк творческой биографии Федора Сологуба (1863–1927) — одного из крупнейших русских символистов, декадента-ортодокса, «русского маркиза де Сада» и создателя одного из лучших сатирических романов XX века — охватывает первое двадцатилетие его писательской деятельности, от момента вхождения в литературу до завершения работы над романом «Мелкий бес». На обширном архивном материале в книге воссоздаются особенности психологического облика Ф. Сологуба и его alter ego — учителя-инспектора Ф. К. Тетерникова. В приложении публикуются материалы, подсвечивающие автобиографический подтекст творчества писателя 1880-х — начала. 1900-х годов: набросок незавершенного романа «Ночные росы», поэма «Одиночество», цикл стихотворений «Из дневника», статья «О телесных наказаниях», а также эстетический манифест «Не постыдно ли быть декадентом».
Приложение IV
«О телесных наказаниях»
(Из незавершенной статьи)
Впервые (в сокращенном варианте): De Visu. — 1993. — № 9 (10). — С. 48–54 (публ. М. Павловой).
В публикацию включены наиболее содержательные фрагменты незавершенной статьи «О телесных наказаниях» (между 1893 и 1896). Текст воспроизводится по черновому автографу, по верхнему слою (ИРЛИ. Ф. 289. ОП. 1. Ед. хр. 570); орфография и пунктуация приведены в соответствие с современной нормой.
* * *Не то говори, что ново, а то, что нужно.
Вопрос о воспитательных наказаниях, кроме теоретического значения, имеет чрезвычайную важность в практическом отношении. Нет ни одной из воспитательных мер, которая могла бы произвести столь тягостное и вредное впечатление, как наказание, неверно употребленное. Возможность ошибки очень велика, если не имеем очень отчетливого взгляда на этот предмет. Составить же определенное мнение, и притом такое, которое выдержало бы испытание на деле, очень трудно. Человеку свойственно более прощать, чем наказывать. Родителю или воспитателю наказывать особенно тяжело (берем воспитателя, преданного делу). <…>.
Русский язык пользуется необыкновенно выразительным названием: наказание. Смысл этого слова показывает, что в основу наказания народ кладет исправительно-поучительную идею. Наказать — в одно и то же время значит у нас и приказать, дать наказ, инструкцию, руководство в известном деле или целом ряде дел — и подвергнуть взысканию за вину. Следовательно, и наказание за вину имеет смысл указания верного пути, приказа, как вести себя на будущее время. Поучить — вместо наказать — также часто употребляет народ, подтверждая этим поучительный смысл наказаний. Скажу из своего опыта: когда мать наказывает меня розгами, она во все время сечения, обыкновенно неторопливого, не только бранит меня, но главным образом делает мне соответствующие наставления, — в точном смысле учит меня. Так было и тогда, когда я был мальчиком, так и теперь. Идеи возмездия и устрашения совершенно чужды чисто народной педагогии или, вернее, элементы устрашения и возмездия, неразрывно связанные с самим актом наказания, какого бы то ни было, подчиняются во взглядах народа высшей идее — поучения и исправления. Подтверждение этому видно во взгляде на преступников как на несчастных и в частом нежелании мстить убийце: «мертвого не воскресишь, а его погубишь». <…>.
Воспитание должно по возможности обходиться без наказаний. Где же они необходимы, там следует применять их так, чтобы они наиболее естественным образом вытекали из самого свойства проступка и в уме наказанного представлялись бы законным и справедливым последствием его деяния. Воспитатель заботится, чтобы самый проступок ребенка был уже ему наказанием или, по крайней мере, чтобы наказание выросло из этого проступка, как росток из семени. Внешне-принудительного характера наказание отнюдь не должно иметь. Оно должно действовать на высшие, духовные стороны человеческой натуры. Унижение и скорбь, которую неизбежно чувствует наказанный, должно быть скорбью и унижением духа, падшего и сознавшего свое падение. И унижение это вызывается не карательными мерами, а тем положением, в которое ставит себя сам преступник: лгуну не верят, обидчика удаляют из общества, лентяю приходится трудиться, когда другие отдыхают. Выраженная словами, эта теория, бесспорно, прекрасна. Примененная последовательно к жизни, она иногда бывает возмутительно жестока, холодна до суровости и вредна по своим последствиям.
Правильно устроенная идеальная система воспитания может, если угодно, обойтись и вовсе без наказаний, если условимся не считать за наказание ласковые наставления да те случайные, неловкие положения, в которые ставит себя провинившийся. Можно представить себе совокупность таких условий, при которых развитие гладко покатится по предначертанному пути, как по стальным рельсам, и при которых будет устранена всякая возможность крушения. Но если допустить, что такого идеала возможно достигнуть, то и тогда такая легкость воспитательного процесса вряд ли может быть признана желательною. Ведь необходимою задачею воспитания должно быть поставлено образование сильного и энергичного характера. Без этого втуне пропадают наилучшие качества, наиблагороднейшие порывы, наичестнейшие стремления. Чтобы ребенок готов был к жизни, недостаточно приучить его ходить гладкими, приготовленными путями. Крутые горки, буераки да обрывы жизни требуют особой ловкости, сметливости и силы, чтобы из них взбираться и с них спускаться. Дитя, приученное к паркету добропорядочного поведения, что будет делать, когда судьба забросит его в глухой и темный лес, где бурелом и валежник загораживают дорогу, где колючие ветви перепутанных елей рвут платье и царапают руки? Для жизни нужны <тоже —> силы и характер. Эти качества в здоровом ребенке развиваются сами собой, если ему предоставлена некоторая степень свободных действий.
Где же допущена свобода поступков, там неизбежно будут и непременно должны быть отступления с прямого пути, дикие порывы и необузданные стремления. И так как они имеют вполне законные права быть и проявляться, то воспитатель должен рассматривать их, но не как грех, которого не должно быть в жизни ребенка, но как проступок, который всецело искупается мужественным перенесением его последствий и который вместе с своими последствиями служит основанием новой силы духа. Эти дикие стремления и порывы не должны быть сгублены и подавлены, но должны быть только употреблены с пользою. Совершенно нелепо ограничивать ту степень свободы, которою может пользоваться ребенок, для того только, чтобы ребенок не совершал проступков и чтобы его не приходилось наказывать. Не признает ли гуманная теория временного лишения свободы одним из видов наказания? Итак, не нелепо ли подвергать ребенка постоянному, хотя и незаметному для него наказанию, чтобы избавить его от наказания случайного, хотя бы и более сильного? Излишний надзор над ребенком, излишняя упорядоченность его жизни взрослыми и есть то стеснение, которое проповедуется и требуется как наигуманнейшая воспитательная мера. Ребенок, за которым старательно наблюдают и жизнь которого внимательно размерена, конечно, не может делать проступков; но он находится в положении заключенного, за которым наблюдает солдат через окно его тюрьмы. Насколько это очевидно для большинства людей, думавших о предмете воспитания, видно уже из того, что ни одно из учебных заведений не организовало постоянного и неослабного наблюдения за своими воспитанниками. Печальное исключение, и очень знаменательное, составляли школы иезуитов. Но мы полагаем, что цели иезуитов и цели гуманного воспитания имеют мало общего. <…>.
Поступок, несогласный с идеальными требованиями внутреннего закона, вызывает мучительный разлад в духе. Томительные мучения совести следуют за преступником, как неотвязные Эвмениды. Но духовные страдания, не имеющие реальной подкладки, протекающие исключительно только в духе и не уравновешенные соответственным телесным страданием, имеют то неудобство, что человек необыкновенно скоро не только привыкает к ним, но и становится по отношению к ним на один из опасных путей: или он привыкает находить красивую усладу в своих невещественных муках и наслаждается сладострастием своего падения, или он перестает терзаться и привыкает грешить с легким сердцем. Давно заметив это печальное свойство человеческой природы, люди, наиболее преданные мысли о самоусовершенствовании, с духовными подвигами соединяли тягостные телесные лишения: укажем хотя бы на установление поста, бичевания, вериги. Но это уже меры искусственные, аскетические, меры времен, преданных осмеянию и проклятию. Но это меры необходимые. Гуманному ли воспитанию пользоваться ими? Современной ли мысли искать свет во мраке монашеских келий? Итак, проступки, не искупленные страданием, влекут за собою, если тому не мешает иное благотворное влечение, или нравственное огрубление, или нравственную развращенность и дряблость. Это и есть, конечно, единственно естественное наказание всякого проступка, если не считать еще и того наказания, которое непосредственно заключается в проступке. Так, ученик, не исполнивший урока, естественно наказывается и тем, что он лишил себя полезного знания или полезного умения, и тем, что каждый неисполненный урок делает его более ленивым и распутным. Очевидно, что невозможно оставлять детей пагубному произволу этих слепо бессмысленных наказаний. Даже ближайшие цели воспитания уже требуют зачастую особых, принудительных мер.
Делают одно из двух: или прибегают к мелочным стеснениям или к грубому нравственному насилию. Первое имеет место, если проступок мал. Не исполнил работы — сиди в то время, когда другие отдыхают. Мера очень хорошая, когда применяется очень редко, но вредная, когда применяется часто. Она вносит беспорядок в жизнь ребенка и мешает укоренению привычки делать все вовремя. <…>.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Книги похожие на "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Отзывы читателей о книге "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников", комментарии и мнения людей о произведении.