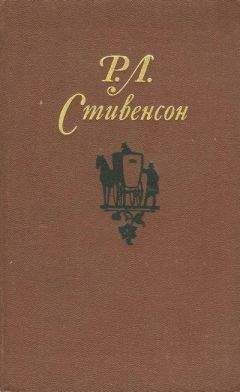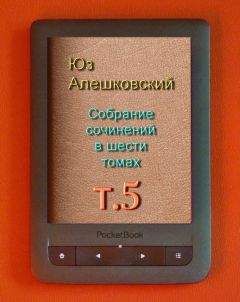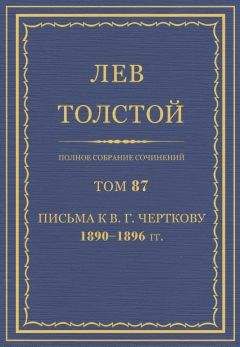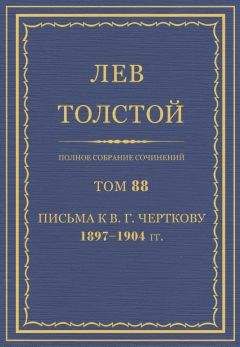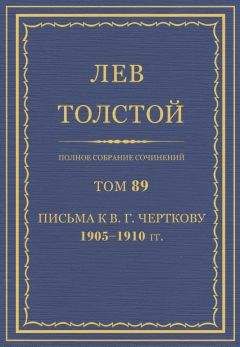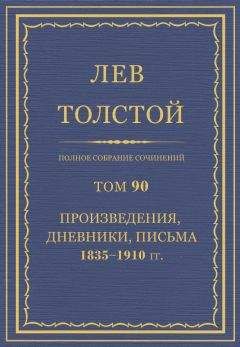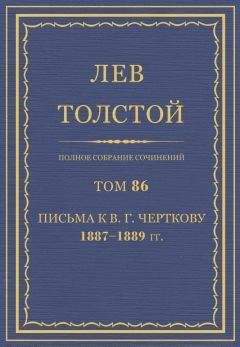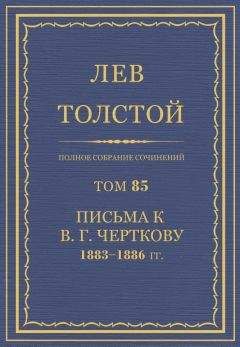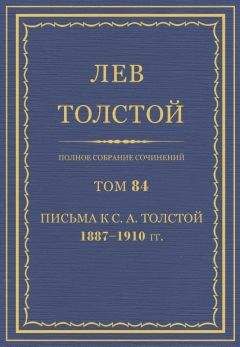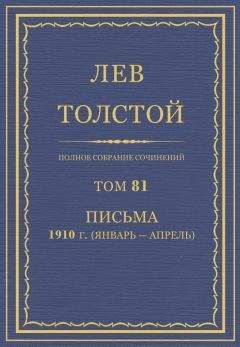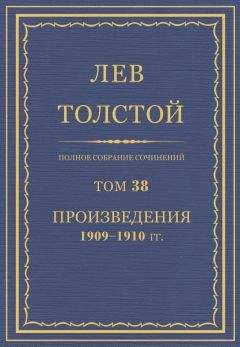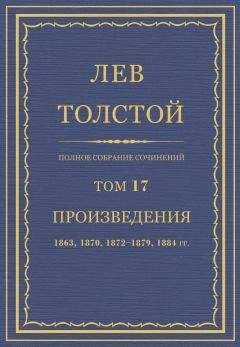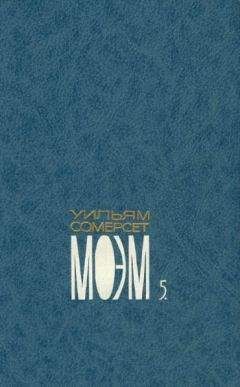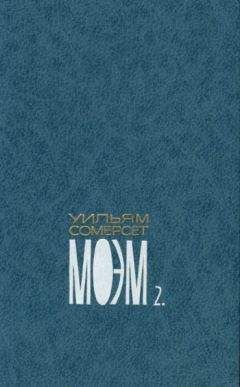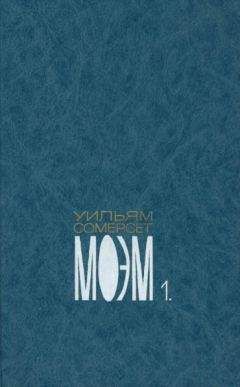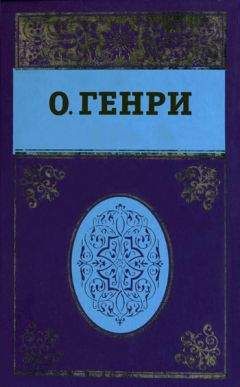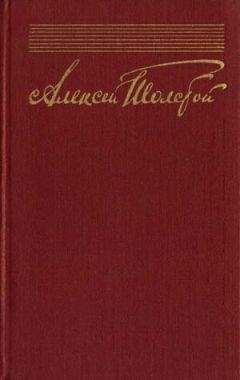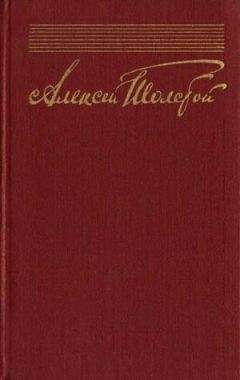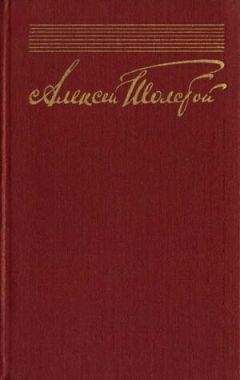Сергей Толстой - Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1" читать бесплатно онлайн.
Настоящее собрание сочинений Сергея Николаевича Толстого (1908–1977) — прозаика, поэта, философа, драматурга, эссеиста, литературоведа, переводчика — публикуется впервые. Собрание открывает повесть «Осужденный жить», написанная в конце сороковых годов и являющаяся ключом к жизни и творчеству писателя. Эта книга — исторический документ, роман-эпопея русской жизни XVIII–XX веков — написана в жанре автобиографической художественной прозы.
— Хорошо. Только у меня больной ребенок…
— Староста найдет вам лошадь.
Один уже откладывает в сторону папино зимнее пальто с бобровым воротником — оно ему нравится. Меня поднимают с постели. Аксюша одевает. Мадемуазель пытается что-то собрать. Не проходит и десяти минут — у крыльца снова появляется староста с рыжей лошадкой. Крестьяне напуганы, сидят по избам. До них не доходит смысл происходящего, пророческий смысл для большинства из них (деревня богатая, мужички хозяйственные).
Мадемуазель все хлопочет: что-то выносит, укладывает, то открыто, то потихоньку; иногда у нее что-то отнимают и несут обратно. Вера стоит под дождем, возле подводы, и ни во что не вмешивается. Аксюша совсем растеряна: хватает какую-то ерунду — помазок, которым подмазывали сковороду, сломанную вилку, тряпку, зачем-то сует это все в валенок. Ей говорят: «Валенки оставьте. Сейчас не зима!» Она машет рукой и выходит на улицу.
Я одет. Меня немного пошатывает от слабости. В последний раз прохожу по этому «дому», вернее, углам этой избы. Вижу папину фанерную дощечку, на которой он писал всегда, лежа в постели, на гвозде — его полотенце, на другом — галстук, на ночном столике — свечка в подсвечнике, в колпачке металлическом, загашенная его рукой. Недалеко от моей постели, на стене, висит «потребиловка», что подарили на елку в прошлом году, — висит то, что от нее осталось: пустые полки. На одной из этих полок — только два больших куска колотого сахару. Секунду поколебавшись, кладу их в карман; надо бы и еще чем-то помочь, что-то захватить, но не знаю, что — голова кружится…
Кто-то поднимает меня над землей и сажает на желтую мокрую солому открытого дождю экипажа — деревенской брички с полукруглым дном и без козел. Тут уже лежит какой-то небольшой чемодан и два узла. В последнюю минуту из дома выскакивает рыжебородый деревенский староста. Он всей душой сочувствует, но сам же и боится чем-то проявить это сочувствие, а тут случайно заглянул в печь, отодвинув заслонку, и не выдержал. Коротенький зипун его невероятно и уродливо оттопырен на груди и боку. Он забегает с другой стороны повозки, старается, чтобы не увидели, достает две горячие ковриги с недопеченным хлебом. Про них все забыли. Староста сует их, у меня в ногах, под солому: «Ведь чуть было не забыли, а как пригодится-то!» Да, это только вчера заезжал брат Аксиньи — Герасим и привез немного муки. Аксюша с вечера поставила тесто, а на рассвете протопила печь и поставила эти хлебы…
Поскрипывает что-то подо мной. Лошадь, оказывается, уже тронулась… Сыплется дождь… Недопеченные хлебы со сбитой на сторону коркой мокнут у меня в ногах. Все плывет и покачивается. Впереди сереет знакомая большая сосна. А сзади последний раз доносится: «взжи, взжи, взжи» — кто-то уже набирает из колодца воду. Они пока еще живут как жили: все вместе садятся за стол обедать, никто не гонит, и хлеб у них допекается до конца, и утро — утро, а день — день, и все слова значат то, что должны значить, то, что они значили и для меня еще так недавно, а сейчас все они без смысла. Только вот этот звук еще имеет какой-то смысл: злобный, издевательский, как сама жизнь, — взжи… взжи… взжи…
ЧАСТЬ III
СЕСТРА
«Искривленного нельзя выправить и недостающего нельзя считать».
Екклез. 1–15Глава I
За окном все такие же низкие обложные тучи, но деревня — куда более бедная и унылая. Нет в ней ни такого пышного лиственно-древесного окаймления дороги с обеих сторон, ни разноцветных железных кровель, ни приветливых улыбок на стольких красивых лицах.
Приехали. Остановились посередине улицы. Нашли дом, куда уже перебрались тетки Козловы. У них маленькая комнатка, в которой они с вещами едва разместились. Ну, а нам долго еще не придется думать о том, куда деть вещи…
Из дома выбежала тетя Дина, заморгала глазами, хотела заплакать, но плакать было некогда: тут же нас разгрузила, провела в дом, а сама куда-то с обычной энергией помчалась; разыскала комнату, в которой можно переночевать и провести день-два, пока не найдем чего-нибудь лучшего. И вот мы сидим в узенькой клетушке и едим мелкую картошку, которую принято скармливать поросятам: размером с грецкий орех и даже мельче, цвет с одного боку желтый, с другого — ярко-зеленый, вкус едкий, противный, за язык щиплет, а льняного масла к ней чуть-чуть — на донышке бутылки. Ну да теперь не до капризов — это даже я хорошо понимаю, уж несколько месяцев, как понимаю, а сейчас и подавно.
На следующий день тетя Дина разыскала вполне подходящую избу — двухэтажную. Верхний этаж занимает хозяйка — добродушная одинокая старуха, Фекла Егоровна. Нижний этаж — одну большую комнату с русской печью и низкими маленькими окнами — уступают нам.
Сестра ни во что не вмешивается. Кругом о чем-то говорят, что-то делается само собой. Все равно поверить в то, что произошло, немыслимо. Да и кругом все — и Мадемуазель, и тетки — повторяют: «Не может быть. „Он“ просто издевался нарочно, этот мерзавец, а, наверное, и сам не знает». Новая волна обнадеживающих слухов доползает откуда-то… Мадемуазель уезжает в Москву добиваться, узнавать, хлопотать…
На второй или третий день после нашего переселения, вечером, осторожный стук в окно. Ваня. Кто-то ему сообщил. Он по-прежнему скрывается у Аксиньи, приходит только по ночам.
Все это — точно во сне, от которого никак не удается проснуться. Недели полторы или две спустя хозяйка Фекла зовет сестру к себе, показывает ей старую уже местную газету, где напечатан список расстрелянных… Они помечены как брат и сестра — кого-то ввело в заблуждение сходное отчество. Указана и вина: контрреволюционная агитация. Это мама-то? Впрочем, теперь все равно. Фекла — душевная старуха — дня четыре прятала эту газету, решала — как быть? Потом позвала Веру: не она, так другие покажут, а тут будет кому хоть водицей сбрызнуть, в себя привести, если… Не понадобилось. Даже не заплакала. Взяла газету, прочла, повернулась, не выпуская газеты из рук, вышла. Прошла к себе. Положила на стол. Села. Сидела долго. Когда я подошел и взял газету, сделала легкое движение: вырвать ее у меня. Но тут же это движение оборвала. Я увидел, прочел: Николай и Мария — брат и сестра — агитация… И тоже сидел, тоже молчал, тоже не плакал. Мне только три дня назад исполнилось десять лет. И что это: начало жизни или конец ее? Читаю, снова перечитываю, верю и не верю, понимаю и не понимаю. Что-то во мне происходит… Прежде всего приходит страшное сознание окончательной бесповоротности события. Это сознание, еще не продуманное мыслями, словно накапливается где-то внутри, ложится ощущением. Мысли подберутся позже: в этот год, в последующие шесть, восемь, пятнадцать лет. Откуда я знаю? Но их уже создает и будет создавать все это же ощущение, возникшее в те минуты. Всеми своими детскими силами и всем детским бессилием, всей моей любовью и всей ненавистью я воздвигаю внутри себя памятник им… На всю жизнь… Уродливый, искалеченный памятник; так же уродлив и искалечен мой маленький, еще вчера такой солнечный, мир.
Утверждая свою любовь к ним, к их памяти, я вместе с тем отрицаю все, что мне ими завещано.
Они говорили: Бог!.. любовь… жизнь — благодатный дар… Я больше не верю в Бога. В настоящем — вместо любви у меня только ненависть, вся любовь осталась там, в прошлом. Ненавижу не только все и всех, но больше всего самою жизнь, этот якобы «благодатный» дар! Они говорили: Бог — милосерден, справедлив! Ложь. То есть они-то не лгали, действительно так думали, но как могли они в это верить?..
Вот и сестра тоже верит — так ей легче, и я не могу рассказать ей о том, что я теперь знаю. Знаю я наперед и то, что она мне скажет в ответ. И мне этого не нужно: ни утешений не нужно, ни Бога — ничего. Да, любить врагов, прощать ненавидящих нас — так говорилось в Евангелии, в молитвах — значит всегда подставлять шею под нож, и тот, у кого нож, всегда будет сильнее. Но ведь на войне в противника надо стрелять, надо стремиться к победе и о победе тоже молиться, но молятся, не выпуская из рук оружия, молятся и убивают. И если это правильно — убивать каких-нибудь немцев неизвестных и, может быть, не столь плохих, а таких же вооруженных солдат и офицеров, убивать, как на дуэли, — то здесь… В голове путаются обрывки мыслей; они, конечно, только обрывки… но какие-то мрачные; тупиковые коридоры, куда они то и дело заводят, не приносят ни на что ответов, не дают облегчения… Только закон звериной охоты друг на друга — закон. Если бы я мог, если бы уже сейчас знал, что мне надо делать, но я не знаю. И некого спросить, не с кем поговорить об этом. Но если нас оставили — их приговорили к смерти, а нас приговорили жить — зачем? Жить после того? Что хуже, что страшнее? Может быть, еще вспомнят, придут и прикончат? А если придется жить, я не имею права забывать, никогда, ни на минуту, где враг. Враг подлый и кровожадный, с пустыми глазами… С ним хороши все средства, его надо убивать везде и всегда, без соблюдения каких-либо правил и условностей… Везде и всегда. Только для этого и стоит жить теперь. И еще: сколько бы я ни жил, что бы там впереди не случилось, нельзя верить никому и ничему. Ради сестры я буду все так же молиться по утрам, ходить в церковь. Ее надо беречь… Да и что мне стоит?.. Я даже люблю эти слова, без их смысла, эти иконы, без веры в их силу и значение. Все это дошло ко мне оттуда, как пачка фотографий, случайно брошенная на телегу Мадемуазелью, как две последние записные книжки отца с набросками пейзажей карандашом, с заметками, стихами… Мне это дорого как память о нем. Я по-прежнему верю ему, но не верю больше тому, во что он верил. Ведь все это — жизнь, Бог, счастье — так безжалостно оплевало мою душу! И за что же? Там на все есть ответы. Но моему внутреннему чувству они не отвечают больше. Что? Все мы грешники перед Богом, а кто и не грешник, так тому Бог, может быть, мстит за грехи отцов?! Но ведь ни дед, ни прадед мой… Чем они заслужили?.. А если Бог только играет со мной, чтобы после тоже убить? Я не хочу такого Бога. Его жизнь хуже, еще хуже его смерти. Пусть она кончается скорее. Счастье? О каком счастье я могу думать? Одно: если бы он вернул мне их. Но так не бывает. А на всякое другое счастье я плюю и отвернусь, во имя их памяти, пусть бы оно само давалось в руки. Поверить в него — значило бы изменить своему чувству к ним, изменить себе в самом главном, оскорбить самое дорогое — эту рану, которая заняла место всех святынь и не должна затянуться, забыться до тех пор, пока я дышу…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1"
Книги похожие на "Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Толстой - Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1", комментарии и мнения людей о произведении.