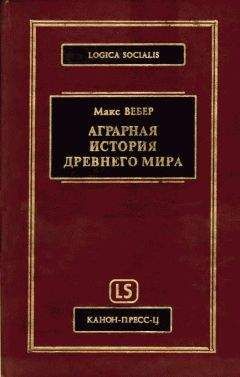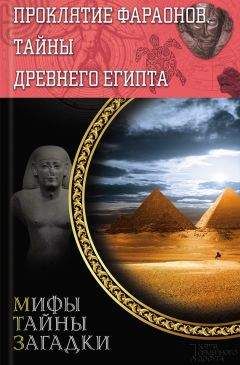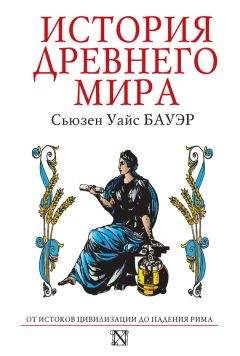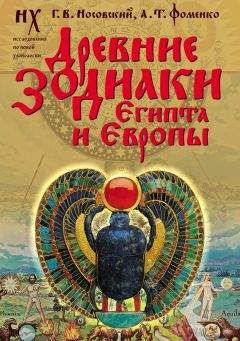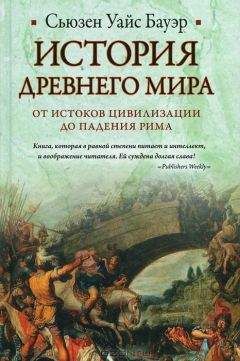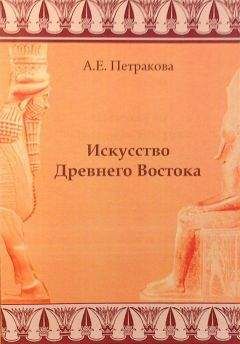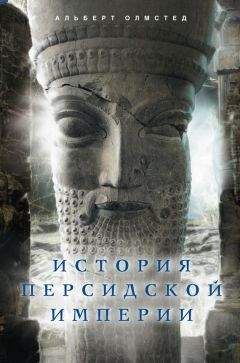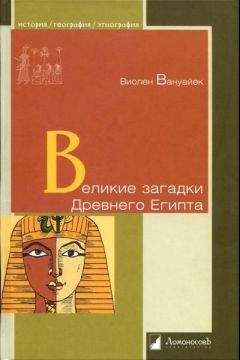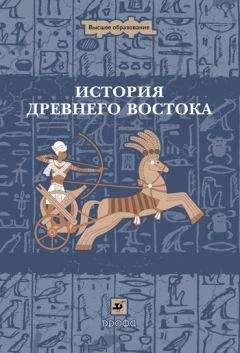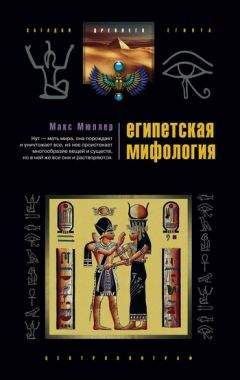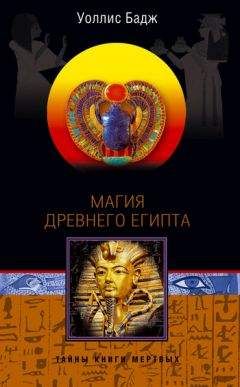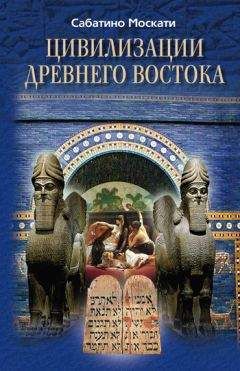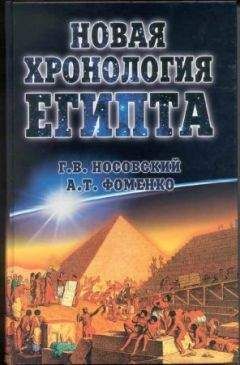Иоэль Вейнберг - Человек в культуре древнего Ближнего Востока
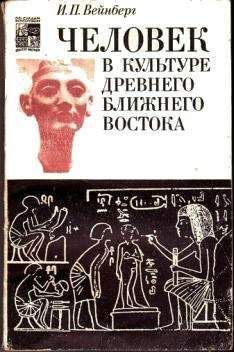
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Человек в культуре древнего Ближнего Востока"
Описание и краткое содержание "Человек в культуре древнего Ближнего Востока" читать бесплатно онлайн.
В результате скрупулезного анализа памятников древнейших культур Древнего Египта, Шумера, Вавилонии и др. автор воссоздает внутренний мир, мировоззрение древнего человека, важнейшие аспекты личности.
На всем древнем Ближнем Востоке семья, будь то первоначально преобладавшая большая отцовская семья (большесемейная община), насчитывавшая несколько поколений потомков одного предка и объединявшая несколько десятков родственников и зависимых от нее людей, будь то сменившая ее малая моногамная семья, обладала общими структурными чертами. Первая из них — определенная отгороженность семьи от внешнего мира, отчетливо проявившаяся в облике семейного жилья — либо плоскостного, как правило, одноэтажного, реже, двухэтажного дома, либо дома-башни, которые своими глухими стенами без окон и узкой дверью-щелью с высоким порогом выражали замкнутость, закрытость. Другая черта древневосточной семьи — ее ориентированность на прошлое, на воспроизведение опыта предков. Именно такой смысл имеют увещевания отца сыну в древнешумерском тексте: «Ты, бродящий без дела по людным площадям, хотел бы ты достигнуть успеха? Тогда взгляни на поколения, которые были до тебя… Сын мой, взгляни на предшествующие поколения, спроси у них совета» [68, с. 28]. Кроме того, семья представляет собой социальную микрогруппу, которой свойственны не только стабильность, оформленность и относительная замкнутость, но также преобладание в ней прямых личных контактов, в том числе и контактов с рабами, что придает воздействию семьи на формирование культуры большую интенсивность и эффективность.
Итак, роль семьи в формировании древневосточной культуры была очень значительной, но влияние семьи, как и школы, ориентировалось преимущественно на традицию.
Важной особенностью древневосточной школы, особенно III — II тысячелетий до н. э., была ее тесная связь с царским дворцом и храмом. Это выражалось не только в том, что школы находились во дворце или в храме, что учителями в них были жрецы и писцы, но прежде всего в том, что школа готовила главным образом жрецов и писцов для дворца и храма. Такой была шумероязычная школа — э-дуба («дом табличек»), такими же оказались обнаруженные в Фивах, столице Нового царства Египта (XIV–XI вв. до н. э.), три школы. В одной из них, помещавшейся в заупокойном храме фараона Рамсеса II, обучались будущие жрецы, во второй, расположенной в поселке на царской земле, готовили художников и писцов фиванского некрополя, а третья находилась в храме богини Мут. С течением времени дворцовые и храмовые школы в Двуречье сменились индивидуальным ученичеством у отдельных грамотеев, а в Палестине на смену храмовым школам пришли общинно-частные школы в городах и селах, где учителем был софер («писец», «книжник»), более не связанный с царско-храмовой администрацией и свойственным ей корпоративным духом [45, с. 62–63; 69, с. 308; 57, II, с. 209 и др.].
Подобные сдвиги в характере школы и составе учителей сказывались на содержании ее работы, т. е. на том, чему и как учили. Даже беглый перечень экзаменационных требований шумероязычной э-дуба показывает, что закончивший полный 14 — 15-летний срок обучения молодой человек должен был уметь писать и читать, переводить устно и письменно с шумерского на аккадский и наоборот, знать наизусть шумерские писцовые и грамматические термины, владеть различными видами каллиграфии и, возможно, тайнописи, техническим языком различных жреческих и других профессий. Выпускники школы одновременно знакомились с музыкальными инструментами и обучались руководству хором, умению составить юридический или хозяйственный документ любого рода, основам математики, счета и распределения рационов и многому другому. Эти данные свидетельствуют, что обучение носило универсальный, синтетический характер.
Со временем, однако, появилась тенденция к специализации в школьном обучении. Об этом свидетельствует не только «специализация» египетской школы второй половины II тысячелетия до н. э., но также палестинский бет мадраш («дом толкования»), в котором обучали приемам интерпретации ветхозаветных текстов, соответственно меняющимся условиям жизни [169, с. 85 и сл.], причем обучение проводилось в устной форме, в виде бесед учителя с учеником. «Грамота — мать красноречия, она — отец учителей», — гласит поговорка из Двуречья [39, с. 24; № 94]. Она подтверждает, что школьное обучение зиждилось на сочетании письменных приемов (переписывание текстов) с устными (заучивание этих текстов наизусть).
Подобное содержание работы древневосточной школы, особенно в III–II тысячелетиях до н. э., определяло ее нацеленность на традицию, о чем с гордостью говорится в древнеегипетском «Прославлении писцов» (II тысячелетие до н. э.):
Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех,
Кто повторяет имена писцов,
Чтобы на устах была истина,
Человек угасает, тело его становится прахом,
Все близкие его исчезают с земли,
Но писания заставляют вспоминать его…
Однако со II–I тысячелетий до н. э. изменившийся характер школы и иной состав учителей, начавшаяся «специализация» и растущий авторитет устного слова, которое исподволь подтачивает традицию, стали хотя бы отчасти смягчать традиционализм школы и соответствующее воздействие ее на древневосточную культуру. Это очень важный момент, поскольку престиж школы на древнем Ближнем Востоке был чрезвычайно высок, там существовал своеобразный культ школьного образования. «Обрати же сердце твое к писаниям!.. Что касается писца, то место его всякое — в столице, [и] не будет он бедным в нем», — говорится в древнеегипетском «Поучении Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи» [118, 1, с. 39]. «Среди всех людских ремесел в нашей стране, сколько их ни определил Энки, нет ничего труднее искусства писца, им созданного», — сказано в шумерском поучении [68, 30]. Подобные же увещевания отцов, по-видимому, звучали в Угарите и Дамаске, Ниневии и других древневосточных городах и поселениях. Престижность школы и школьного образования обусловлена вполне земными и поэтому особенно важными для древневосточного человека соображениями — грамота это ключ к служебной карьере, благополучию, уважению. Но во всех поучениях подчеркивается также «красота» слова, его жизнетворная и созидательная мощь, возвышавшая владеющего словом. Все это способствовало сравнительно широкому распространению грамотности на древнем Ближнем Востоке, где большая часть «свободных» умела по крайней мере читать [42, с. 62 и сл.; 35, с. 135–137]. Разумеется, таким образом роль школы в формировании культуры была весьма значительной.
Мы рассмотрели различные предпосылки формирования древневосточной культуры, часть которых были долговременными, другие — быстротечными, одни воздействовали на большие людские общности, другие — на малые, одни ориентировались на традицию, у других традиционность была выражена слабее, одни выполняли интегрирующую роль, другие — дифференцирующую роль в развитии культуры и т. д. Однако феномен, именуемый культура древнего Ближнего Востока, обладает несомненной цельностью. Значит, существовала еще одна предпосылка, способная объединить все эти силы, не нарушая при этом их специфичности, особенностей их воздействия на культуру, в единое русло, беспорядочные волны в единый поток. Что это за предпосылка?
* * *Памятники литературы и искусства, сохранившиеся в источниках сведения об обычаях и поверьях древнего Ближнего Востока вводят нас в глубоко своеобразный, коренным образом отличающийся от нашего мир представлений. Он населен причудливыми существами, которых нет и не было в действительности, в нем происходят странные, невозможные действия и события. Обратимся к примерам.
Вот Египет III–II тысячелетий до н. э. В очаровательной сказке «Царь Хеопс и волшебники» говорится: «Есть (один) неджес, Джеди имя его… Он — неджес ста десяти лет… Он знает, как приставить на место отрубленную голову…» [102, с. 67]. Своего фараона — царя, который был человеком, египтяне считали также богом Гором, воплощенным в изображении сидящего или стоящего сокола. Небо представлялось им и коровой, и рекой, и богиней Нут, и крышей, и пр.
Обратимся к Двуречью III–I тысячелетий до н. э. В «Эпосе о Гильгамеше» рассказывается о том, что Гильгамеш, человек и правитель Урука,
Привязал к ногам тяжелые камни,
Утянули они его в глубь Океана
Во дворцах ассирийских царей стояли гигантские статуи пятиногих крылатых быков с человеческими головами, которые были воплощениями и защитниками царей, и пр.
У хеттов II тысячелетия до н. э. царь соотносится с барсом или львом, которые, в свою очередь, являются хранителями животворной воды, и пр.
Мы нередко высокомерно определяем этот мир, эту систему представлений как «примитивную, отсталую, фантастическую». Но при этом с завидной легкостью отмахиваемся от того бесспорного факта, что для древневосточного человека все это — фантастические создания и возможность погружения человека на дно океана, тождество царя-человека-бога-зверя и многое другое — было реальностью, ибо таково было его мышление, мышление мифологическое.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Человек в культуре древнего Ближнего Востока"
Книги похожие на "Человек в культуре древнего Ближнего Востока" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иоэль Вейнберг - Человек в культуре древнего Ближнего Востока"
Отзывы читателей о книге "Человек в культуре древнего Ближнего Востока", комментарии и мнения людей о произведении.