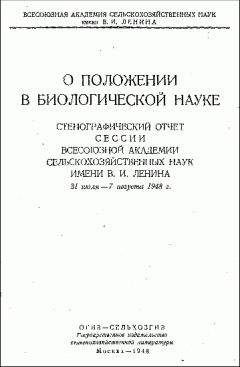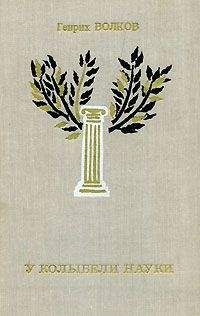Николай Копосов - Хватит убивать кошек!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Хватит убивать кошек!"
Описание и краткое содержание "Хватит убивать кошек!" читать бесплатно онлайн.
Критика социальных наук — это ответ на современный кризис гуманитарного знания. Социальные науки родились как идеология демократии, поэтому их кризис тесно взаимосвязан с кризисом современного демократического общества. В чем конкретно проявляется кризис социальных наук? Сумеют ли социальные науки найти в себе ресурсы для обновления или им на смену придет новая культурная практика? В книге известного историка Н. Е. Копосова собраны статьи и рецензии, посвященные истории и современному состоянию социальных наук, и прежде всего — историографии. В центре внимания автора — формирование и распад современной системы основных исторических понятий.
Но демократия вовсе не должна казаться логически неизбежной людям, не разделяющим указанных метафизических допущений. Например, людям, представляющим мир как иерархию идеальных сущностей, логически неизбежной формой общественного устройства должна представляться, скорее, монархия. Именно такую метафизику разделяли средневековые люди, которым монархия казалась столь же соответствующей природе вещей, как нам сегодня кажется демократия.
Космос идеальных сущностей описывала аристотелевская логика. В соответствии с ней, чтобы определить понятие, надо указать его ближайший род и видовые отличия. Видовые отличия при этом понимаются как необходимые и достаточные условия: члены категории должны обладать хотя бы одним признаком, который свойствен им всем и никому, кроме них. Аристотелевская логика настолько зависит от такого понимания структуры категорий, что все ее основное содержание — правила построения силлогизмов — рассыпается, если отказаться от принципа необходимых и достаточных условий: ведь из двух оснований силлогизма хотя бы одно должно быть сформулировано как общее утверждение (т. е. в терминах необходимых и достаточных условий).
Любые ли свойства данной категории пригодны для ее определения? Логики обычно отличают существенные свойства или атрибуты веои от несущественных. Можно ли образовывать понятия таким образом, чтобы их определения основывались только на несущественных свойствах? Аристотелевская логика предполагает, что определение дается на основе существенных свойств вещи. Следовательно, она предполагает, что у вещей есть сущность, которая и выражается в определении. Но ведь определение указывает на место категории по отношению к категории более высокого таксономического уровня, а та, в свою очередь, также определяется по отношению к сущности более высокого порядка. Определение, таким образом, указывает на сущность категории и на ее место в иерархии сущностей, вплоть до наиболее общей категории, высшей сущности, объединяющей все вещи во вселенной. Именно поэтому аристотелевская логика описывает мир, представляющийся разуму как иерархия идеальных сущностей, как манифестация Логоса[150]. Теория силлогизма как основного инструмента познания имеет смысл только для описания последовательно развертывающейся субстанции.
Для этого стиля мышления, следовательно, характерна идея сущности, иначе говоря, эссенциализм. Неудивительно, что эссенциализм является характерной чертой традиционной социальной терминологии: рассмотрим ее на примере Франции Старого порядка. По унаследованной от Средневековья традиции считалось, что общество состоит из трех сословий, каждое из которых выполняет определенную общественную функцию. Эти сословия — молящиеся, воюющие и трудящиеся (oratores, bellatores, laboratores) — вместе составляли «дом Божий», т. е. высшую целостность. Понятно, что эта схема была теоретического происхождения, но постепенно она стала общепринятой[151]. Наряду с ней в Средние века опробовались и другие классификации[152]. Многие социальные термины были существительными отглагольного происхождения или субстантивированными прилагательными. Связь с глаголом выражала идею наличия у группы определенной функции, в выполнении которой состояло ее предназначение, ее сущность.
К концу Средневековья основные социальные термины устоялись, их связь с глаголами стала менее очевидной, однако система социальных категорий по-прежнему выражала эссенциалистское видение общества. Возьмем, например, само понятие сословия. Для него во французском языке имелось два приблизительно эквивалентных слова — ordre и état. Нас здесь интересует слово état. Оно, собственно, означало положение, статус (и происходило от латинского status), а в переносном смысле — группу индивидов одинакового положения. Приблизительно такое же значение имело весьма распространенное слово condition, только оно обычно применялось для более дробных классификаций, чем слишком общее деление на сословия. В обоих случаях первичным значением слова было именно положение, а вторичным — группа. Но положение, статус человека — это и есть его «качество», его сущность. Характерно, что известный теоретик французского абсолютизма Шарль Луазо в начале XVII в. характеризовал сословие (ordre) как неотъемлемо присущее человеку качество, используя для этого логический термин accident inséparable[153]. Можно вообще сомневаться, насколько четко термины état и condition выражали идею группы. Например, в формуле «генеральные штаты» (Etats généraux) слово états означало не столько группы людей (как нас побуждает думать современная логика представительства), сколько именно сущности, вместе составляющие сущность высшего порядка — королевство.
К такому же выводу склоняет анализ социальных категорий. Характерна история слова дворянство — nobilitas, noblesse. Существительное nobilitas происходит от прилагательного nobilis (известный, знатный), которое, в свою очередь происходит от глагола nosco — знаю. Знаю — знатный — знатность — это классический путь формирования понятия, ведущий от глагола через прилагательное к существительному. Но слово «знатность» (дворянство), в котором фиксируется понятие, — это имя абстрактное, выражающее свойство или качество соответствующей категории людей, их сущность. Слова clergé, noblesse и bourgeoisie в XVI–XVII вв. означали духовенство, дворянство или буржуазию не столько в смысле совокупности клириков, дворян или буржуа, сколько в смысле их статуса или сущности. Они употреблялись не столько как имена собирательные, сколько как имена абстрактные. На русский язык правильнее было бы перевести эти слова как «духовность», «дворянскость» и «буржуазность». На генеральных штатах, следовательно, заседали не клирики, дворяне и буржуа, но духовность, знатность и буржуазность (или, точнее, «третье качество» — tiers état). Для обозначения же множества дворян или буржуа использовались их нарицательные имена во множественном числе (nobles, bourgeois). Из этого следует, что интеллект нуждался в лингвистических инструментах для выражения прежде всего идей экземпляра рода и сущности рода. Грамматическая структура категорий отсылала к модели социального мира как иерархии идеальных сущностей. Лишь позднее, в основном уже в XVIII–XIX вв., слова, которыми раньше обозначали сущности, станут обозначать множества. Это будет радикальный разрыв с традицией эссенциалистской социальной мысли.
Итак, дом Божий как высшая сущность разделялся на три рода или сословия. При этом сословия, формально находясь на одной ступени таксономии, были иерархически упорядочены, поскольку за соответствующими функциями признавалась разная степень ценности. Это — фигура мысли, описанная Л. Дюмоном: социальные категории рядоположены, но не равны[154]. Высшее сословие (духовенство) могло быть метонимически отождествлено с целым: слово ecclesia означало и христианский мир, и институт церкви. Внутри каждое из сословий делилось на подсословия, но уже расположенные строго иерархически (пусть даже на практике иерархия была путанной)[155]. Над системой сословий возвышался верховный властитель, который представлял на земле высший род и именно поэтому был властителем.
Поскольку главной общественной функцией считалась функция духовная, а первым сословием — духовенство, глава этого сословия и должен был, казалось бы, быть главой христианского мира. В этом смысле свое наиболее последовательное развитие политические теории Средневековья получили в теориях папской власти, обосновывавших ее верховенство над властью светской. Понятно, что такая логика не устраивала светских государей, которые предпочитали нарушить ее правильность, но не подчиниться папству. Впрочем, нарушение было не слишком грубым, поскольку глава христианского мира (или его части — королевства) был таковым не в качестве главы одного из сословий, а в качестве представителя всеединства Божьего дома. Не случайно, что даже когда на грани XVI–XVII вв. понадобилось слово для обозначения некоторой сущности, являющейся носителем высшей земной власти — суверенитета, то таким словом стало слово état (государство — то же слово, которое означало сословие). Источник современной идеи государства — идея высшего рода, включающего в себя сословия и корпорации того, что мы сегодня называем обществом.
Итак, логика иерархии предполагала монархию, поскольку предусматривала высший род классификации, а следовательно, Бога и его помазанника. Монархия и сословный строй были элементами одной и той же модели мира, которая господствовала еще в XVI–XVII вв.
В начале XVII в. это характерно проявилось, например, у Шарля Луазо: он не делал различия между тем, что с XVIII в. стало различаться как общество и государство, и классифицировал всех французов по одному основанию — причастности к власти. Сословия в его изображении принадлежали к той же субстанции, что и королевская власть, только другие носители власти были менее совершенны, чем король. И, конечно, каждую из своих категорий Луазо описывал в терминах необходимых и достаточных условий. Его сословия и «подсословия» (sous-ordres) располагались иерархически, как последовательно расположенные сущности (во всяком случае, в верхней части социальной пирамиды). Образ социального мира воспроизводил метафизику идеальных сущностей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Хватит убивать кошек!"
Книги похожие на "Хватит убивать кошек!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Копосов - Хватит убивать кошек!"
Отзывы читателей о книге "Хватит убивать кошек!", комментарии и мнения людей о произведении.