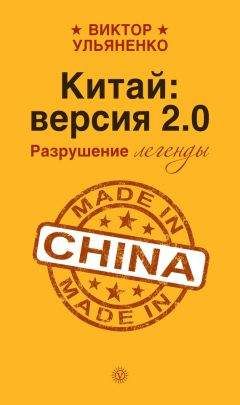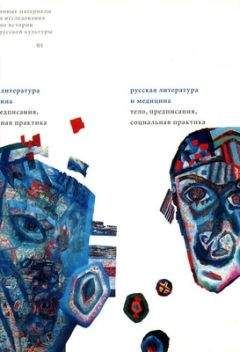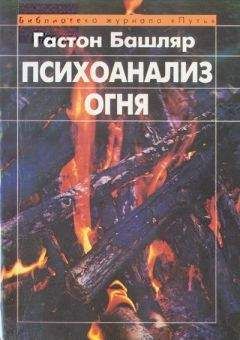Виктор Бычков - Феномен иконы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Феномен иконы"
Описание и краткое содержание "Феномен иконы" читать бесплатно онлайн.
Наряду с «премудростию свыше» и высокой нравственностью художнику необходима чисто техническая, профессиональная подготовка, «школа». Иосиф Владимиров «молит» больших мастеров «подати <…> искру учения» всем желающим принять ее (29). Приостановить хоть как–то процесс «плохописания» в России можно, полагает он, путем организации живописных классов по западному образцу, и подробно описывает с чьих–то слов («глаголют бо») «премудрое живописующих училище», в котором ученики под руководством опытного мастера учатся рисовать и писать фигуру человека, изучая отдельные части по слепкам и таблицам (55). Русским живописцам второй половины XVII в. западноевропейская организация живописного дела и сама западная живопись представлялись образцами, достойными подражания.
От русского Средневековья Иосиф Владимиров унаследовал и развил в духе своего времени концепцию единства мудрости, искусства и красоты. Живопись (= художество) осмысливалась им как выражение и воплощение мудрости. Она характеризовалась им как «честное и высокое художество». Хорошо (прежде всего в новом европейском духе) написанные иконы Иосиф называл «премудрым художеством», «премудрым живописанием». «Мудр путь художества», — настаивали и Владимиров (29), и Симеон Полоцкий, придавший этой формуле почти юридическую силу включением ее в «Царскую грамоту»[162].
Подтверждение изначальной связи искусства с разумом и мудростью Иосиф находит в Библии, когда для сооружения и украшения первых культовых зданий Моисей собрал мастеров, наделенных божественной мудростью — «вся имущыя премудрость, им же даст бог разум и хитрость в сердцы» (Исх 36,2)[163]. Возглавить их, как повествует Библия, должен был мастер Веселеил, определенный на эту должность самим Господом, который «наполни его Духа Божия, премудрости, и разума, и умений всех, архитектонствовати во всех делесех древо–делания, творити злато, и сребро, и медь, и ваяти камени, и делати древо, и творити по всему делу премудрости» (Исх 35,31—33).
Иосиф назидает: «Зри, яко ни невольным, ни же невеждам повелевает Бог святодетельныя вещи усгрояти, но премудрым. Им же дан от Бога совершен разум и хитрость в сердцы, таковым довлеет иконная воображения творити». И в другом месте автор заключает: «Сотвориша же Веселеил и Елиав, и всяк мудрый умом, ему ж дано есть премудрость и хитрость разумети творить вся делеса лепотная ж святыни по всему, елика заповеда Господь» (36; 39).
Искусство {хитрость) понимается Иосифом как неразрывно связанное с мудростью, «разумом» и воспринимается в библейско–средневековых традициях как божественный дар. Главное назначение «премудрого художества» он видит в создании «святодетельных вещей» — предметов, ориентирующих человека на абсолютные духовные сущности, религиозные ценности, выраженные в прекрасной чувственно–воспринимаемой форме («лепотная»). Здесь Иосиф формально остается приверженцем важнейшего принципа классической русской средневековой эстетики — принципа софийности искусства, хотя, как увидим далее, у него он наполнился уже новым, несредневековым содержанием.
Эти же идеи более четко формулируют авторы «Слова к люботщателем». По их мнению, Бог запретил создавать образы, почитаемые за богов, то есть идолы, но Он не только не отрицает «образов, красоту приносящих, духовную ползу деющих и божественная нам смотрения являющих», но и повелевает творить их (СЛИП 70). Здесь фактически сформулирована концепция (и даже философия) искусства, характерная для русской эстетики XVII в. При этом «духовная польза» и изображение событий священной истории входят в нее из средневековой эстетики, а вот выдвижение на первый план красоты — это уже новый элемент, отражающий новые тенденции в эстетическом сознании. Важно, что красота понимается здесь, как мы еще увидим, в разных аспектах, среди которых красота самого изображения занимает далеко не последнее место.
Богословы, теоретики и практики искусства второй половины XVII в. ясно представляют, что художественно–эстетическая сторона живописи играет значительную роль в богослужебной практике. Небрежно, неискусно, без красоты написанный образ Бога или святого может оттолкнуть верующих от почитания и самого первообраза («отщетится почитания»), и, напротив, красота и высокое мастерство изображения влекут внимание видящих его к прототипу. А в этом — одна из главных задач, поставленных Церковью перед «премудрым художеством», которую оно стремилось решить с максимальной полнотой. В данном случае она совпадала с одной из главных тенденций эстетического сознания века — созидания чувственно воспринимаемой красоты.
В духовной культуре и в искусстве XVII в. прекрасное выдвигается на одно из первых мест и становится практически синонимом и истинного, и мудрого, и святого. Новая, ориентирующаяся на западные образцы живопись ценится ее сторонниками далеко не в последнюю очередь за красоту. Сознавая, что западноевропейское искусство возродило античный принцип миметического изображения, идеализирующего (украшающего) взятый за основу оригинал (реального человека), поклонники этой живописи в России XVII в. пришли к выводу, что красота изображения основывается на изначальной красоте человека, в которой он был создан Богом и которую сам утратил с грехопадением. Однако зреть эту красоту люди могли (и могут еще) в самом облике Христа и во многих святых. Их так должны запечатлевать живописцы, чтобы в изображениях все видели «первообразного красоту»[164].
Человек создан по образу Божию, напоминает Иосиф Владимиров Плешковичу, не принимавшему красивых («световидных») икон святых. «Егда тако создан первый человек, нося образ Божий в себе и наречен в душу живу, то по что ты ныне зазираешь благообразным и живоподобным персонам святых и завидуешь богодарованней красоте их?» (Влад. 59). Как свидетельствует традиция, красотой («благообразием») отличались многие библейские персонажи и христианские святые. Иконописец называет Давида и Соломона, Эсфирь и Юдифь, детей Иова. Сусанна так «красна бе видением», что возбудила вожделение в древних старцах, «и инии мнозии таковии древле обреталися» (58). История христианского времени, пишет Иосиф, также сохранила в своей памяти, что «мнози святии» мужского и женского пола «видением были благообразнии». Мать императора Константина Елена слыла самой прекрасной женщиной Италии. Христианские мученики Георгий, Дмитрий, Феодор были прекрасны обликом; великомученица Екатерина «в лепоту бо по светлости лице ея тезоименита луне небесной», а о Варваре говорили, «яко не бяше таковы лепотою в человецех, подобна аггельскому виду. И сих всех благообразие и доброта (красота) от господа создана есть» (59), — заключает Иосиф, они–то и должны изображаться на иконах.
В связи с тем, что особенно резкие возражения традиционалистов вызывали новые изображения Христа, Иосиф уделяет много места в трактате обоснованию красоты его внешнего облика. Известно древнее, восходящее к ранней патристике мнение о невзрачности Иисуса, которое не было принято византийскими богословами, но сторонники его всегда существовали в Византии и в славянском мире (в среде аскетически настроенного монашества).
Владимиров приводит много цитат из Ветхого Завета, относимых патристикой к Иисусу, и из церковных служб, где говорится о красоте и благообразии Христа. На основании этого материала он заключает, что церковное предание донесло до нас сведения о совершенном, «благолепном» и «благотелесном» Христовом образе, фактически аналогичномпервозданному образу Адама (51). Мысль о «крайнем смирении» Иисуса относится, по мнению автора «Послания», не к его внешнему виду, а к нравственному облику. «Пресветлый» и «радостотворный» Иисусов лик, полагает он, был прекрасен своим совершенством и излучал сияние, и именно таким должны изображать его живописцы, а не «постным и умерщвленным лицем», как считают традиционалисты (52).
С еще большими подробностями описывает Иосиф красоту Богоматери, запечатленную в первом ее изображении апостолом Лукой: «<…> возраст средния меры ея, имущ благодатное жено святое лице, мало окружно и чело светлолепно, продолгующъ нос, доброгладостне на прям лежащ, очи зело добре, черне ж и благокрасне, зенице такожде и брови; устне ж всенепорочная червленою красотою побагряне, и персты благоприятную руку ея тонкостию истончени, во умеренной долгости. И благосиятельныя главы власы русы, кротостны (скромно) украшены» (61). Всё описание построено на эстетической терминологии, которая у автора второй половины XVII в. значительно обогатилась по сравнению с терминологией древнерусских книжников. Светлолепно, доброгладостне, зело добре, благокрасне, червленою красотою побагряне, благоприятный, тонкостию истончены, во умеренной долгости, благосиятельныя, кротостны украшены — эти десять эстетических определений, с помощью которых Иосиф описывает легендарное изображение, мало дают художнику конкретных сведений о портретных чертах Богоматери. Но к этому наш теоретик и не стремится, ведь у любого иконописца есть набор иконографических схем всех изводов. Его задача сводится к созданию (а в его понимании — к напоминанию) эстетического идеала, каковым являлся и сам свято чтимый всем христианским миром первообраз, и его изображение. При этом идеальными чертами наделяется именно оригинал (исторически существовавшая мать Иисуса), а не изображение, осмысливаемое в духе древней традиции лишь как зеркало («образ совершен устроив яко в зерцале». — 61).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Феномен иконы"
Книги похожие на "Феномен иконы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Бычков - Феномен иконы"
Отзывы читателей о книге "Феномен иконы", комментарии и мнения людей о произведении.