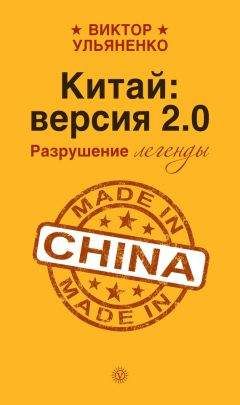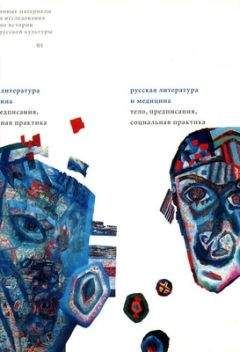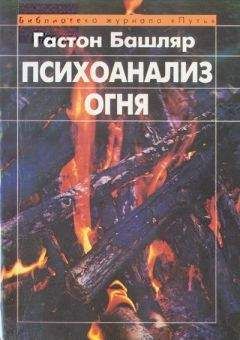Виктор Бычков - Феномен иконы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Феномен иконы"
Описание и краткое содержание "Феномен иконы" читать бесплатно онлайн.
Отстаивая новую, казалось бы, далеко ушедшую от средневековых канонов «живоподобную» живопись от нападок традиционалистов, Иосиф обращается за поддержкой к авторитету древних и находит ее в раннехристианской и византийской теории миметического образа, во многом подробно разработанной и окончательно сформулированной иконопочитателями VIII—IX вв., хотя и не нашедшей тогда адекватного художественного воплощения. Эту адекватность русский художник и теоретик неожиданно усматривает в живописи западноевропейской ориентации, в иконах своего друга Симона Ушакова, что побуждает его вновь обратиться к святоотеческой теории миметического образа и утвердить с ее помощью полную правомерность, именно с православной точки зрения, новых «живоподобных» изображений.
В основе этой теории, как я уже отмечал, лежит легенда о «нерукотворном» образе Христа (30). На «плате Вероники» и на «убрусе», отправленном царю Авгарю, сохранились, по легенде, точные отпечатки лица Христа. О них–το и вспоминает Иосиф Владимиров (31). Он напоминает, что «нерукотворный» образ является подтверждением реальности важнейшего таинства — «вочеловечения» Христа. В нем Иисус сам передал нам «истинный свой образ», а последующие живописцы только точно копируют («переводят») его.
По–новому осмысливая величайшую значимость для многовековой истории искусства и заново переживая чудо создания «нерукотворного» образа, Иосиф неоднократно обращается к нему в своем трактате, добавляя каждый раз какие–то новые штрихи к знаменитой легенде и связывая с ней современное состояние дел в культовой живописи. Он подробно повествует о том, как больной «князь Авгарь» послал «премудрого живописца своего Ананию именем, дабы истово Христов образ списал» и доставил ему, чтобы он, видя изображение это, «очесы насладился» и утешился в скорби и печали своей. Прибыв в Иудею и отыскав Христа, Анания пытался тайно «описати неописанного». «Но невозможе постищи непостижимаго, аще не бы сам Христос сын Божий образ плотцкаго своего таинства показал, умыв святое лице и лентием отре, и яко жив на убрусе том вообразився вочеловечения его образ». Это изображение с письмом послал Иисус с Ананией к Авгарю, и тот исцелился им как телесно (от проказы), так и «душевно» (приняв христианство) (47). В другом месте Иосиф пишет, что Анания не мог написать портрет Христа из–за сильного сияния («облистания и светлости»), исходившего от него. Тогда тот сам «прием воду и лентие и вместо фарботворения живописующих единым преткновением боготелеснаго лица своего образ на убрусе живоподобие вообразил» (54).
В этих Владимировых переложениях древнейшей легенды следует обратить внимание, по крайней мере, на две вещи. Во–первых, Иосиф подчеркивает, что хотя Христос и был реальным человеком, но его божественная природа накладывала на человеческий облик такой отпечаток, что даже «премудрый» живописец не смог написать его образ. Потребовалось чудодействие самого оригинала. Во–вторых, Иосиф настойчиво подчеркивает, что «нерукотворный» отпечаток получился «яко жив», «живоподобен», то есть, в понимании Иосифа, был точной копией живого оригинала. И именно эту «копию» Иосиф называет «истинным подобием», которое и следует размножить живописцам («достоит преписати») (43). Наряду с сохраненной христианским преданием легендой о «нерукотворном» изображении Христа Иосиф приводит и менее распространенное известие о подобном же образе Богоматери из Лиды, который на столпе «само вообразился» (53).
Многовековая иконографическая традиция, сохраненная от апостольских времен, восходит, по убеждению Иосифа, к чудесно созданным натуралистически–реалистическим отпечаткам и изображениям. Иконы Христа, написанные живописцами, — лишь искусный перевод «нерукотворного» образа («от оного нечим же отличен еже на убрусе»); иконы Богоматери — копии лидского изображения. Изображения многих святых еще при их жизни были запечатлены по просьбе их учеников искуснейшими изографами так, чтобы ни малейшая черта облика святых не была утрачена. Образы других святых и ангелов были написаны по словесным описаниям видевших их — «каково коегождо подобие, тако же и воображаху» (31). А коль скоро таковы были оригиналы (первые изображения) и выполняли они функцию документального изображения внешности почитаемых Церковью лиц, то и от современных ему живописцев Владимиров требовал в первую очередь документальности, максимальной реалистичности в изображении человека и особенно его лица.
«Премудрый» художник, по мнению автора трактата, «яково бо, что видит или в послествовании слышит, тако и во образех, рекше в лицах, начертавает и противу (согласно) слуху и видения уподобляет» (58). Особенно наглядно это видно на портретах царей, и римских, и греческих, и русских, и персидских, и многих других, — «кои каковыми обличии были и одеяния на себе носили, таковых и воображают» (45). Именно такую живопись как истинную противопоставляет Иосиф «неистовому плохописанию», образцы которого возами развозились по всей России в XVII в. и имели в народе большой успех «дешевизны ради». Суть ее состоит в реалистическом («живоподобном») изображении всех членов тела и лица, в правильной передаче цвета, в светотеневой моделировке, наконец, которой практически не знала ни Византия, ни Древняя Русь. Сам Иосиф так излагает представления своего времени о «премудром живописании <…> добрых майстров»: «Всякой убо иконе, или персонам рещи человеческим, против всякаго уда (члена) и гбежа (сустава) свойственный вид благоумными живописцы составляется, и тем всякий образ или икона новая светло и румяно, тенно и живоподобно воображается» (45).
В любом изображении событий священной истории всё должно соответствовать реальной действительности, или, в терминологии Иосифа, надлежит быть изображено «по смотрению плотскому». У Марии в «Благовещении» «премудрые живописцы» изображают «лицо девиче, уста девичи, устроение девиче» (57). Иисус в его земной жизни «по смотрению плотскому и по бытию его на земли описуется», а на кресте «пишется образ Христа мертв, сомженныма очима и увяденными чювствы». Так же следует изображать и мучеников. Когда ведут святого на казнь, то он на иконе «жив яко елень на источник грядет. Егда ж спекулатарь посечет, то глава яко есть мертваго человека, труп же лежащь видится пишется» (57).
Образцы именно такого искусства поступали в Россию с Запада (прежде всего из Польши), и на них ориентировались живописцы круга Ушакова — Владимирова. Иностранцы, полагал Иосиф, «аще и маловернии, но обаче многих святых апостол и пророк на листех и на стенах тщательно воображают» (42). При этом русскому живописцу импонирует тщательная работа западных мастеров над изображением, их стремление добиться максимального сходства с изображаемым, особенно когда речь заходит о портретах живых людей, которые в то время стали приобретать популярность в России. «Аще ли в чем и мало погрешит живописец от первообразнаго, то многажды преправляет, дондеже существо вида вообразит» (42). Приближающийся к реалистическому идеализированный портрет западноевропейской живописи XVI—XVII вв. становится идеалом для русских живописцев последней трети XVII в.
В религиозной, или церковной, живописи идеалам Иосифа Владимирова во многом отвечало искусство Симона Ушакова и прежде всего его хорошо известные («яко живы») иконы «Спас нерукотворный». Своей концепцией Владимиров логически завершил многовековую линию развития в православной эстетике теории миметического изображения (в смысле идеального отпечатка), а Ушаков с незаурядным мастерством реализовал ее на практике, изобразив тщательно моделированный светотенью, почти объемный идеализированный лик Христа, как бы парящий на фоне иллюзорно выписанного матерчатого плата.
Таким образом, многократно и на все лады восхваляемое в трактате Владимирова «любомудрие», «премудрость», «изящество», «благообразие» новой, ориентирующейся на западноевропейскую живописи заключаются в «живоподобии», соединенном со «светлостью» и красотой и реализованном на высокопрофессиональном уровне, то есть «мудрость» живописи он усматривает фактически в эстетических идеалах классицизма, перенесенных на православную почву и соответствующим образом трансформированных.
Очевидно, что здесь на теоретическом уровне наметился и, по существу, начал осуществляться отход от главного и высшего идеала классического русского Средневековья — софийности искусства, хотя терминологически он выражен в трактате Владимирова, казалось бы, даже более ясно и полно, чем у средневековых русских мыслителей. Однако содержание этой терминологии, и прежде всего понятия «премудрость», применительно к живописи существенно изменилось. Если в XV в. и даже еще в середине XVI в. «мудрым» почиталось искусство Андрея Рублева, выражавшее сущностные основы бытия, главные духовные ценности своего времени, являвшее верующему реальные визуальные образы–символы лиц и явлений священной истории в их сакральной вневременности и внепространственности, то теперь живописная «премудрость» усматривалась в умении красиво и «истинно» («яко жив») изобразить все «члены и суставы» человеческого тела, точно «вообразить» его «по плотскому смотрению», то есть иллюзорно передать внешний вид.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Феномен иконы"
Книги похожие на "Феномен иконы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Бычков - Феномен иконы"
Отзывы читателей о книге "Феномен иконы", комментарии и мнения людей о произведении.