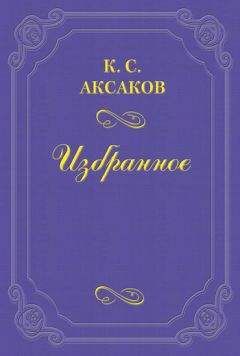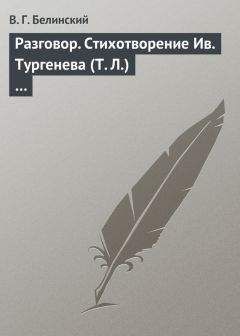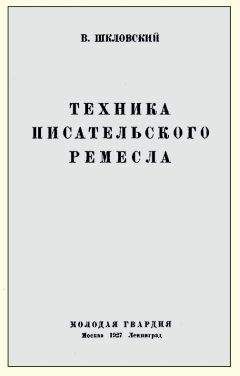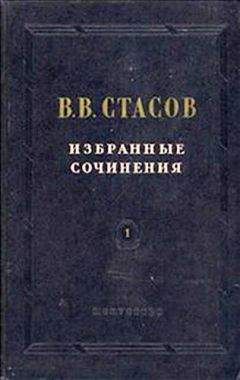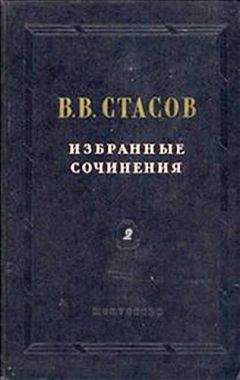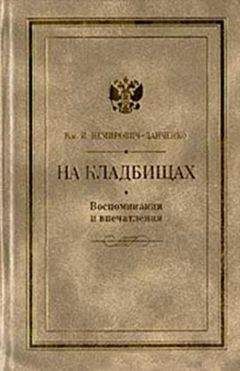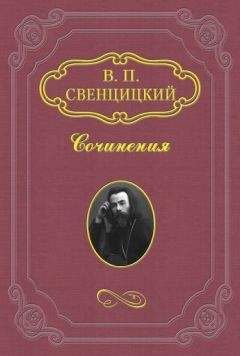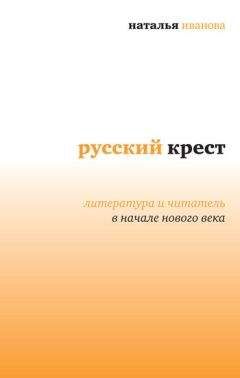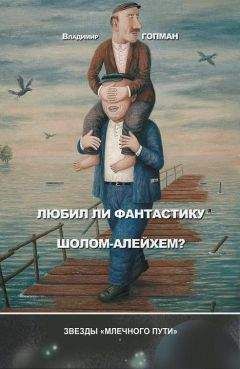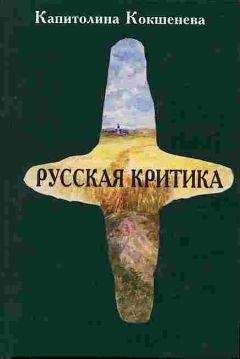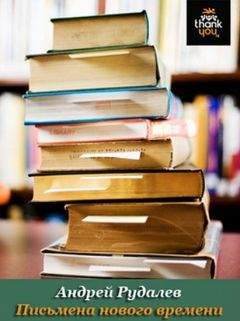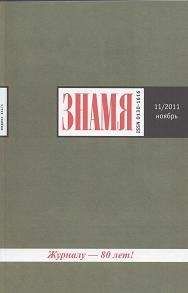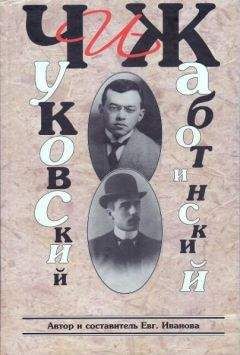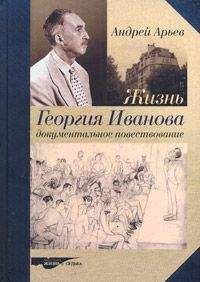Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
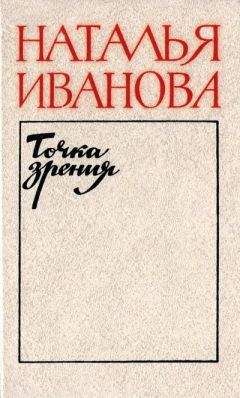
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Точка зрения. О прозе последних лет"
Описание и краткое содержание "Точка зрения. О прозе последних лет" читать бесплатно онлайн.
Критик Наталья Иванова известна своими острополемическими выступлениями. В ее новой книге ведется разговор об исканиях и «болевых точках» литературного процесса последних лет. В центре внимания писатели, вокруг которых не утихают споры: Юрий Трифонов, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Василь Быков, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Валентин Распутин, Владимир Маканин.
В послесловии к «Повести о несбывшейся любви» Анатолия Иванова в «Роман-газете» В. Яковенко настаивает на том, что «картины суровой и вместе с тем прекрасной сибирской природы, речевая словесная стихия органично вплетаются» в данное повествование. Попробуем сравнить этот многообещающий вывод с реальным текстом повести.
В центре повести — несостоявшаяся по крупному счету судьба известного «на всю страну» писателя, «давным-давно» удостоенного «всех возможных почетных званий, государственных наград и премий». Это ему, стоящему «на высоком яру», открывается пейзаж: «Все просторнее становилось и на земле, потихоньку сгорали на ней леса и перелески. Деревья, росшие отдельно, тоже сыпали вниз янтарные угли, эти угольки медленно гасли, а сверху подсыпались и подсыпались свеженькие». «Чернышов любил и понимал природу. Из всех времен года он, как Пушкин, больше любил осень, из всех состояний земли он лучше всего понимал и умел выразить в повестях и рассказах вот эту ее высокую осеннюю целомудренность, когда она, очищаясь от пыльных летних бурь, отдыхая от буйных огненных гроз, готовилась к чему-то огромному и таинственному, как сон, как небытие».
«Высокая осенняя целомудренность», которую любил, как Пушкин, и «умел выразить» герой, так же как и сочетание образа листьев-угольков с «деревьями», стоящими «отдельно», — свидетельство стилистической неоднородности текста, не выверенного одной доминантой.
Ан. Иванов, известный читателю своими крупными произведениями, интерес к которым был стимулирован крутыми сюжетными поворотами и страстями героев, многократно усиленными телевидением, обратился в этой повести к частной жизни героя-интеллигента с целью доказать, что, оторванная от жизни народа, не оправданная крупной темой, писательская удача все же остается псевдоудачей, что бы ни говорила «обслуживающая» писателя критика.
Автор заставляет героя высказать слово самоотречения. Вот как думает сам Чернышов (о себе в третьем лице), — опять обратим внимание на язык косвенной речи героя, как бы скалькированный с газетной полосы: «Его повести не имеют и десятой доли той художественной ценности, которую приписывают им критики… Критика по поводу его творений шумит, бушует, даже кричит, надрываясь от восторгов, а у людей свои мерки художественных ценностей. А уж у времени тем более!» Эти риторические восклицания, ораторские приемы, рассчитанные не на внутреннюю речь, а на аудиторию, свидетельствуют не о наступившем прозрении и самокритике писателя, что, видимо, хотел показать Ан. Иванов, а об искусственном моделировании его характера. Без воссоздания живого человеческого слова не может существовать проза, как она не может существовать и без свежей, оригинальной мысли, тем более, что эта мысль в повести препоручается писателю.
Посмотрим, о чем же мыслит и как «обобщает» прозревающий Чернышов: «Чернышов уныло думал, что его герои действительно бескрылые», «До чего же все-таки народ мудрый!», «Русские литераторы никогда не боялись… дерзко бросить в лицо своим угнетателям стихи, облитые горечью и злостью». Под «угнетателем» прямо подразумевается юркий черноглазый критик Семен Куприк, чья нерусская фамилия, подчеркивает Ан. Иванов, лишь на одну букву отличается от фамилии известного писателя. Темное влияние критика на литератора, утратившего под его воздействием родную почву, заложено автором и в еще одну «говорящую» фамилию — литератор, естественно, не Яснов, не Белов, а именно Чернышов.
Кстати, как писатель-профессионал, Чернышов не может не знать, что его коллега Лермонтов бросает не в «лицо», а в «глаза» — и не «угнетателям», а «пестрой толпе» — свой — в единственном числе! — «железный стих, облитый горечью и злостью»!..
Для наполнения идейного каркаса, по которому писатели разделяются на хороших «эпиков», жизнь которых исключительно трудна, а творчество — трудоемко, и дурных «бытописателей», чья жизнь и творчество легковесны («…Зачем тебе эта каторга? Самое милое дело — небольшая повесть. Несколько неделек — и испеклась», — искушает Семен Куприк Чернышова, у которого руки рвутся к эпопее), автор использует вставные пейзажи. Только что «отдельные» деревья, как мы помним, сыпали «янтарные угли», а вот и новый пейзаж: «Сквозь поредевшую листву солнце снова сыпало на черную воду пригоршни золотых углей». Но повествование от автора расцвечено не только однообразно выполненными пейзажами осенней природы. Расцвечены и чувства героев: «…Красивое лицо исказилось невыносимой мукой», «За селом, обессиленная, упала ему на плечи (?! — Н. И.) со словами: „Валя, Валя…“ — и уже не смеялась, а только плакала, но это были теперь счастливые слезы».
Именно от такого языка, теряющего связи с живым разноречием жизни, отражающим ее изменчивую проблематику, и отталкиваются прозаики, пытающиеся при помощи слов не только передать сюжет, но и изобразить это слово, несущее художественную информацию о человеке. Это слово совсем не обязательно обладает яркой лексической окраской; здесь важна постановка слова внутри повествования, его функция в словесной композиции произведения.
Острое чувство неудовлетворенности художественным уровнем текущей беллетристики порождено не только тем, что в ней недостаточно активно осваиваются новые жизненные проблемы, но и состоянием собственно прозаического слова, вне разработки которого никакие новейшие проблемы не будут иметь эстетического обоснования. Написанная с установкой на прямое авторское слово, текущая проза использует другие «слова» и «языки» персонажей чаще всего лишь для расцвечивания, характерологической окраски. Они, эти «языки», не входят в живой контакт (конфликт, полемику, подтверждение) с авторским словом и даже друг с другом. Это, так сказать, отдельно звучащие в произведении слова-украшения. Язык произведений, написанных по такому принципу, можно уподобить картинке, в которой контуры нарисованы простым карандашом и затем отдельные плоскости раскрашены.
* * *…Действие романа В. Михальского «Тайные милости» происходит в областном центре, на берегу Каспийского моря. Герой, тридцатитрехлетний Георгий Васильев (отметим многозначительность названия романа, имени героя — в переводе «победитель» — и его возраста; в романе вообще детали очень многозначительны) — зампредгорисполкома. Георгий представлен читателю автором как прирожденный лидер, хороший организатор. Председатель горисполкома, собираясь перед пенсией сменить прописк на московскую, хочет посадить Васильева в свое кресло, о чем и сообщает ему, одновременно поручая разобраться в ситуации с водоснабжением города. И Васильев активно включается в работу, обнаруживая, что новый водосбор, постройка которого требует огромных мощностей, городу практически не нужен. Выкладки Васильева производят впечатление на обкомовское начальство; до кресла, можно сказать, рукой подать. Эта сюжетная линия вообще неплохо обкатана в прозе последних десятилетий; на месте водосборных сооружений могли бы возникнуть цеха строящегося комбината, Васильев — угодить в главные инженеры и т. д., и ничего, кроме аксессуаров, выполняющих роль пыльного театрального задника, не изменилось бы. Отчетливо это понимая, автор вводит любовную линию — какой же роман без любви? С увядающей женой (к тому же карьеристкой в душе) у героя нет внутренней близости, да и обычная супружеская близость уже не доставляет ему радости. Тут и возникает в романе одинокая красавица Катя, агент Госстраха, ничего, кроме страховки и ласки, от героя не требующая. Катя безоглядно, с первого взгляда, полюбила Васильева: «Катя прижалась лицом к его плечу, и он почувствовал ее горячие слезы…» От свалившегося на нее подарка судьбы в лице Васильева Катя плачет «чистыми слезами благодарения (? — Н. И.), думая о Георгии, о нечаянной щедрости жизни, которая так долго обходила ее своими явными и тайными милостями». Васильев увозит Катю на уик-энд за город, где она, случайно оступившись в море, погибает. Жертвуя семейным благополучием и карьерой, Васильев, испытывающий чувство непоправимой вины, организует похороны и забирает Катиного маленького сына.
Жизнь наказала Васильева. Назначение не состоялось. К финалу романа «черты лица его заострились и отвердели, в глазах стало меньше света и… победительной ясности». Но автор, пользуясь избитым ходом природной параллели, не удерживается от перспективы: «Дул освежающий северный ветер…»
В. Михальский заявляет своего героя как человека, в котором ясность ума сочетается с трусоватостью, деловая хватка — с эгоизмом, внешнее внимание к людям — с тщеславием. Зампредгорисполкома — романтик в душе. Большой знаток поэзии, особенно поэзии Лермонтова. Кстати и некстати он читает Лермонтова, цитирует Пушкина (правда, недопустимо для знатока путая текст «Бориса Годунова» с текстом «Маленьких трагедий»). Смысл романтической окраски героя заключается, видимо, в желании автора создать неоднозначный характер «делового романтика»: «А ведь с внешней стороны его жизнь складывалась удачно: он еще молод, а у него уже большие дети, преданная жена, великолепная квартира, крупная должность. И, оказывается, все это, вместе взятое, он готов отдать за час наедине с желанной, но, в сущности, мало знакомой ему женщиной… Ах, сколько задушено им в самом себе неродившихся поступков, живых чувств!» Кто же эта загадочная личность в гарольдовом плаще? Лишь сильный шок, такой, как внезапная смерть близкого человека, способен перевернуть его отношение к жизни, избавить от раздвоенности, пытается убедить нас автор. Но такие люди, как Васильев, скорее пожертвуют своей псевдоромантичностью, нежели карьерой!..
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Точка зрения. О прозе последних лет"
Книги похожие на "Точка зрения. О прозе последних лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет"
Отзывы читателей о книге "Точка зрения. О прозе последних лет", комментарии и мнения людей о произведении.