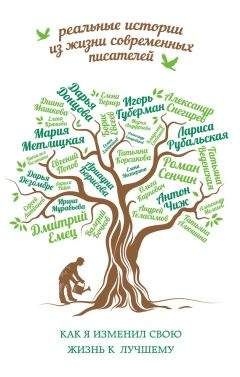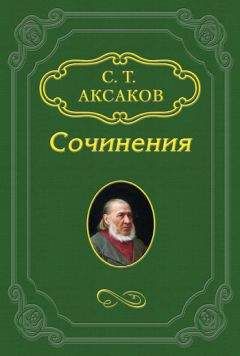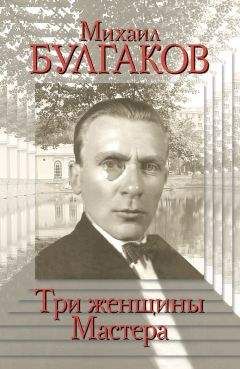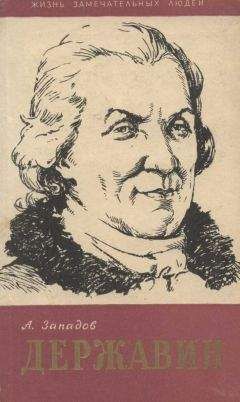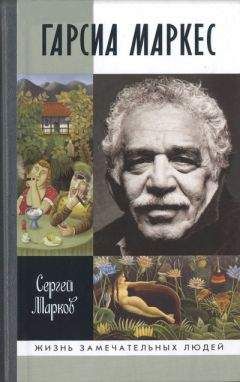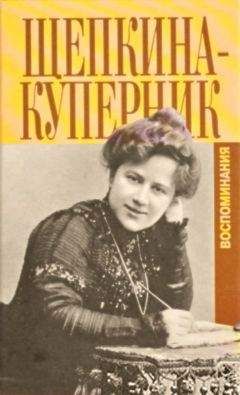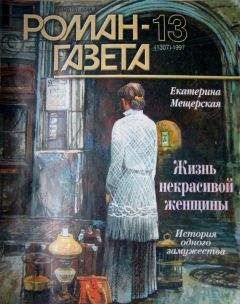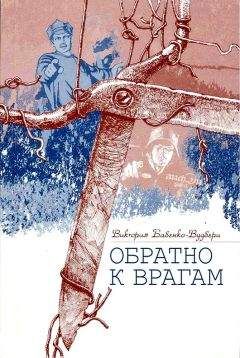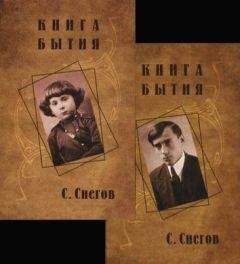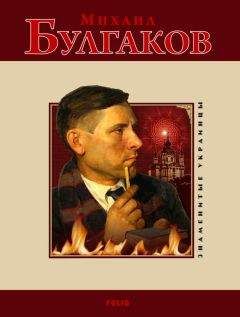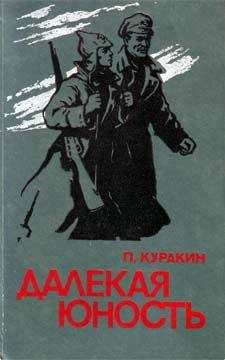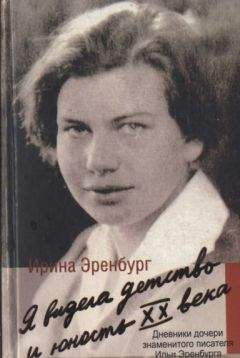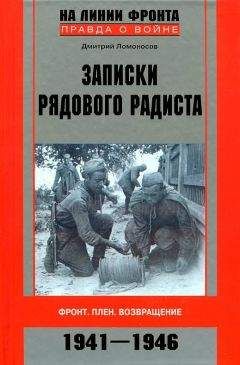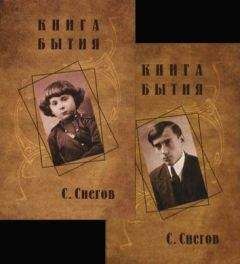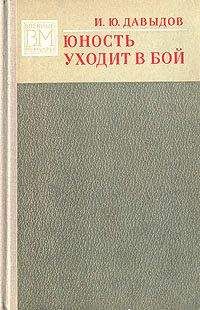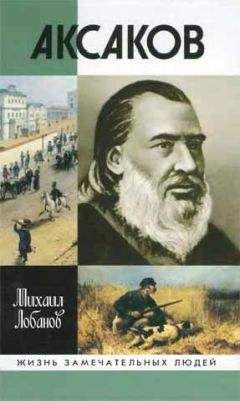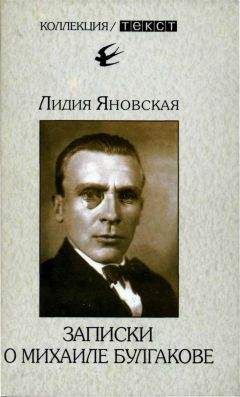Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе
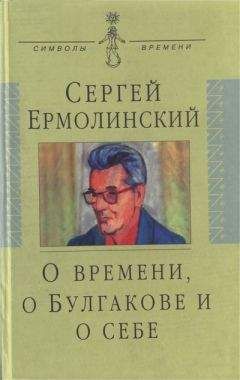
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Описание и краткое содержание "О времени, о Булгакове и о себе" читать бесплатно онлайн.
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
То, что он делал во Владикавказе, лишь приблизительно можно считать началом его литературной работы. Он ехал в Москву ни с чем. А ему было уже тридцать лет! И среди начинающих московских писателей он оказался самым старым.
Шел 1921 год.
Просматривая старые подшивки «Гудка», я нашел, видимо, первую публикацию Булгакова в этой газете (18 апреля 1922 года), об экскурсии культотдела Дорпрофсожа Моск. — Курской ж. д. в разные музеи и галереи Москвы. А затем — первый его фельетон (17 октября 1923 года), «Беспокойная поездка», подписанный — Г. П. Ухов. От этого псевдонима его попросили отказаться, тем более что из сотрудника, дававшего небольшие заметки и обрабатывавшего почту рабкоров, он постепенно возвысился до ранга фельетониста. Фельетоны его появлялись все чаще, под менее озорными псевдонимами.
Он работал в «Гудке» вместе с группой молодых литераторов — Юрием Олешей, Катаевым, Ильфом и Петровым, Львом Славиным. Веселое время молодости! Знаменитая четвертая полоса! Хлесткие фельетоны! Не редакция, а клуб безудержных остряков! Было ли все это такой безоблачной идиллией? Конечно, нет. Булгакову жилось нелегко. Надо было тянуть газетную поденщину, зарабатывая на жизнь, перебегая из «Гудка» в другую, третью редакцию какого-нибудь профсоюзного или ведомственного журнальчика, благо их развелось в ту пору множество. И к вечеру, освободившись от этой беготни, можно было забраться в свою комнату, примерно такую, как она описана им в «Записках покойника» («Театральном романе»), комнату Максудова, и там, в этой максудовской комнате, всю ночь писать свой первый роман — «Белую гвардию». Жизнь сразу приобретала высокий смысл: писался роман! Появилась вера в себя, и честолюбивые писательские мечты будоражили воображение. Эту книгу, по его словам, он любил больше других своих вещей. Писал ее воспаленным пером, не остывшим от пережитого. Не потому ли роман этот до сих пор сохраняет живой нерв, живое чувство и, думаю, еще недооценен нашей критикой.
Я познакомился с Михаилом Афанасьевичем значительно позже (в конце двадцатых годов) и обо всем, что происходило до этого, знаю лишь с его слов. Надо условиться: я не пишу биографии Булгакова и тем более исследования о нем — это лишь раздумья о его жизни и, следовательно, раздумья о нашей советской литературе, о ее взлетах и падениях (о да, было и это!).
В своем творчестве он всегда исходил из того, что подсказывала ему жизнь. Он смотрел на нее не равнодушными глазами. Его писательская позиция была неизменной и тем более непримиримой, когда он сталкивался с любым проявлением бесстыдного угодничества и литературной нечистоплотности.
Он был веселый мистификатор — и в сочинениях своих, и в жизни; но в каждой его шутке терзалось нетерпение говорить впрямую. Он мог бы выразить это словами Герцена: «Долой маскарадное платье, прочь косноязычие и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!»
Но это позже, когда задумался он над трагическими судьбами Мольера, Пушкина, Дон Кихота. Когда возник перед ним образ тихого Иешуа, избитого Крысоловом и оставшегося наедине с надменно-холодным Понтием Пилатом. Нет, в молодости было проще, беспечнее. Он с удовольствием разыгрывал перед читателем гофманиады советского быта. Круговорот учрежденческих лабиринтов возникал как рок, как дьявольская неизбежность. Это было смешно. А наша литература жила тогда без мелочной опеки. Но вот в повести «Роковые яйца» прозвучал уже зловещий, пророческий сюжет…
Словом, появился изобретательный и остроумный автор, и Горький, в ту пору независимый в своей жизни и суждениях знаменитый писатель, зорко следил за первыми шагами молодой советской литературы и тотчас отметил Булгакова, назвав его вместе с именами Федина, Зощенко, Леонова, Каверина, Всеволода Иванова… Спрашивал писателя С. Т. Григорьева: «Знакомы ли вы с М. Булгаковым? Что он делает? Не вышла ли „Белая гвардия“ в продажу?» А Ромену Роллану писал, что в России появляются поистине замечательные писатели — Леонов, Булгаков…
Критика тех лет увидела в сборнике булгаковских рассказов «Дьяволиада» искажение советской действительности и пожурила его за это, но более широкое, выходящее за рамки журнальной полемики внимание привлек роман «Белая гвардия». Две части его были напечатаны в журнале «Россия» (в 1924 году), а третья осталась неопубликованной из-за закрытия журнала.
В этом романе запечатлелись еще не остывшие, жгучие воспоминания о Киеве времен гражданской войны. Тут были куски личной жизни, втянувшей его в бурный поток событий и превратившей его, врача, в литератора… Максимилиан Волошин писал Н. С. Ангарскому[51], одному из редакторов издательства «Недра»: «Эта вещь представляется мне очень крупной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».
Художественный театр заинтересовался романом и предложил автору сделать инсценировку. Так появились знаменитые «Дни Турбиных».
В пьесе, как и в романе, Булгаков, кровно связанный с судьбой русской интеллигенции, выступал ее адвокатом и прокурором. Он всегда видел в ней одно из самых высших проявлений духовной силы русского народа и никогда не изменял этому убеждению. Но он смотрел исторической правде в глаза и именно поэтому клеймил изменников и трусов из своей среды, судил их беспощадным судом. В «Беге» он показал бесславный конец белого движения, возникавший как кошмарное сновидение, как трагический балаган. В «Турбиных», напротив, автор полон глубокого сочувствия к турбинскому дому, его неповторимой теплоте, тревожной смуте. Тальберг мерзок и жалок, но зато Алексей Турбин до конца сохраняет неподкупную честь и благородство.
Вот за этот «объективизм» критика и обрушилась на театр и на Булгакова. «Защищать?.. Что?.. Кого?..» — с болью и гневом останавливал юнкеров Алексей Турбин. — «Одним словом, в бой я вас не поведу, потому что в балагане не участвую, тем более что за этот балаган заплатите своей кровью и совершенно бессмысленно, вы все!..» Слов этих не услышали.
Удивительно, что не только смысл пьесы, ее идейная направленность не были уловлены, но и художественная сторона драматургии Булгакова вызывала сомнения. Я поразился, прочитав письмо А. В. Луначарского В. В. Лужскому[52], помеченное 12 октября 1925 года. Ознакомившись с пьесой, А. В. Луначарский не нашел в ней ничего недопустимого с точки зрения политической. «Я считаю, — писал он, — Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно бездарна, за исключением более или менее живой сцены увоза гетмана. Все остальное либо военная суета, либо необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины <…>. В конце концов нет ни одного типа, ни одного занятного положения <…>. Если некоторые театры говорят, что не могут ставить тех или иных революционных пьес по их драматическому несовершенству, то я с уверенностью говорю, что ни один средний театр не принял бы этой пьесы именно ввиду ее тусклости, происходящей, вероятно, от полной драматической немощи или крайней неопытности автора». Это написано наркомом просвещения, одним из разносторонне образованных людей — критиком, публицистом, оратором, а к тому же и драматургом, пышные пьесы которого шли в Малом и других театрах[53].
Но тут было не просто непонимание нового автора современниками (даже такими всеядными, как Луначарский). Дело обстояло глубже. Булгаков лицом к лицу столкнулся со зрителем, который только что прошел тяжелейшие дороги гражданской войны. Ее раны еще кровоточили. А на московской сцене вдруг сыграли спектакль, героями которого оказались белые офицеры, и автор рассказывал о них с горестным сочувствием к их трагической судьбе. Как могли воспринимать «Дни Турбиных» люди, только вчера скинувшие буденовки и красноармейские шинели? Они были взволнованы, но отношение их было непримиримо, и в их понимании смысл пьесы, естественно, искажался. Лишь впоследствии «Дни Турбиных» и «Бег» прозвучали совсем по-другому, но для этого потребовалось время, чтобы не только психологическая, но и историческая правда его пьес стала очевидной. А тогда они вызвали бурную полемику, и это было неизбежно. И добро бы, если бы это было просто полемикой. Вспыхнула и неведомо почему разрасталась критика самая злопыхательская. Вот уж в выражениях не стеснялись!
Били и по МХАТу, и по Булгакову с двух сторон: с одной — ортодоксы из РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), самозванно присвоившей себе функции партийного руководства литературой, с другой — крикливые лефовцы, провозглашавшие новые революционные формы и громившие старое искусство и одну из его цитаделей — МХАТ.
Много лет позже Булгаков вспоминал об этом без всякого озлобления, даже весело и говорил:
— А знаешь, кто мне больше всех навредил? Завистники.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О времени, о Булгакове и о себе"
Книги похожие на "О времени, о Булгакове и о себе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе"
Отзывы читателей о книге "О времени, о Булгакове и о себе", комментарии и мнения людей о произведении.