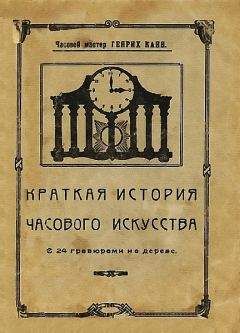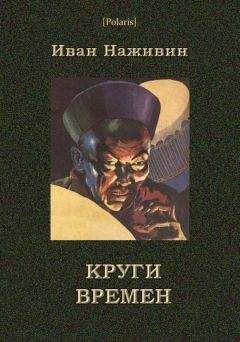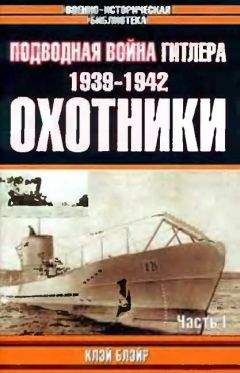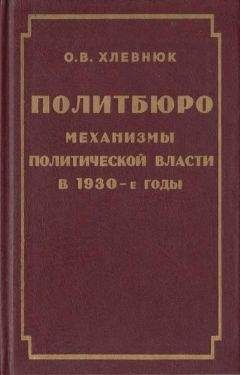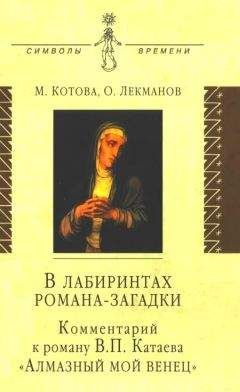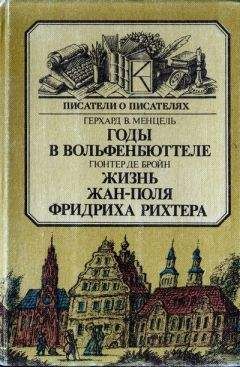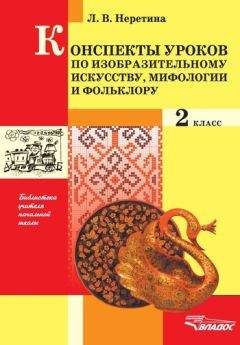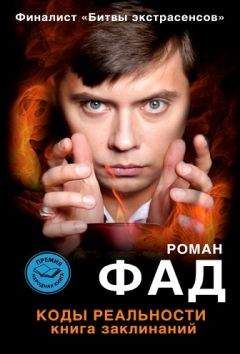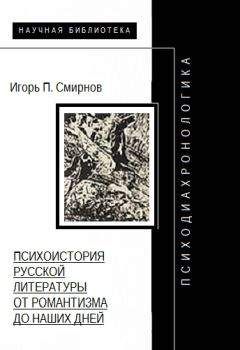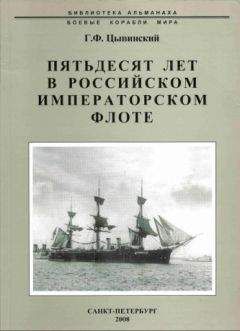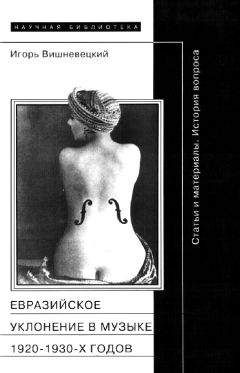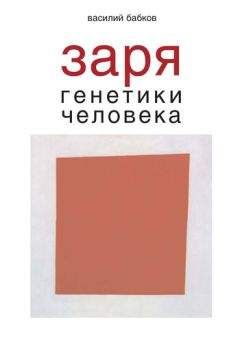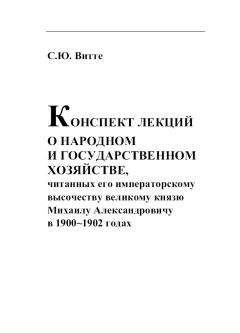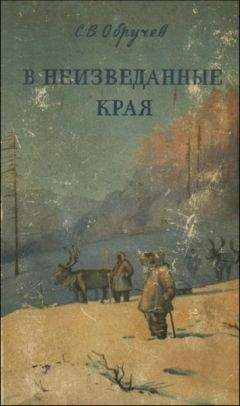Генрих Киршбаум - «Валгаллы белое вино…»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Валгаллы белое вино…»"
Описание и краткое содержание "«Валгаллы белое вино…»" читать бесплатно онлайн.
Наряду с античными, французскими и итальянскими культурными реалиями одно из ведущих мест в поэтическом мире О. Мандельштама занимают мотивы из немецкой литературы, мифологии и истории. В книге Генриха Киршбаума исследуются развитие и стратегии использования немецкой темы в творчестве поэта: от полемики с германофилами-символистами и (анти)военных стихотворений (1912–1916) до заклинаний рокового единства исторических судеб России и Германии в произведениях 1917–1918 годов, от воспевания революционного братства в полузабытых переводах из немецких пролетарских поэтов (1920-е годы) до трагически противоречивой гражданской лирики 1930-х годов.
Мандельштам — поэт экономный, поэтому, разрабатывая в HP немецкую образность, он контекстуально опирается на собственные стихи, в которых уже затрагивалась немецкая тема: из «Лютеранина» он подхватывает тему чужой речи и похорон, а также ритмику, из «Здесь я стою — я не могу иначе…» — тему стойкости и уверенности в своей правоте, из «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» — как сам принцип метакартины романтизма, так и отдельные образы, из бартелевских переводов — детали метафорики. Главным объектом контекстуальных ссылок являются стихотворения 1917 года («Декабрист», «Когда на площадях и в тишине келейной…»), в которых уже в зачатке существовал момент обращения к немецкой культуре и гадания-выгадывания собственной судьбы. Немецкие стихи революционной поры — не только пассивный источник тематических и образных приемов HP, но и предмет интертекстуальной полемики: если в стихах 1917 года поэтическая и солдатская (офицерская) дружба показана роковой и губительной, то в HP она призвана возродить поэта; если в своих вопрошаниях 1917 года поэт-культурософ Мандельштам раздваивался между оксюморонными качествами германского и, скорее, отталкивался от них, то в HP именно в «немецком» культурном пространстве он находит искомый опыт поэтической и социальной независимости и бесстрашия. Античные мифологические мотивы соединяются с мотивами германских сказаний и их романтических переработок. Упоминанием средиземноморских Цереры и Пилада Мандельштам снимает, аннулирует провозглашенную в «Когда на площадях и в тишине келейной…» роковую отдаленность германской стихии от «волшебства» средиземноморского мира. Грубость северных дружин и древних скальдов — поэтов-воинов — не распространяется на немецких поэтов и воинов — в данном случае на поэта-офицера Клейста.
Несмотря на «литературность» тем и образов, Мандельштам усиливает актуальность высказывания, причем не только в силу осязаемой «русской» подтекстуальности, но и благодаря недвусмысленным намекам на писательскую и общественную ситуацию начала 1930-х годов. Проекции биографии Клейста наличную судьбу поэта придают этим параллелям особенный драматизм. Установка на двуплановость закономерно прослеживается при сличении черновиков: сонет «Христиан Клейст» и другие варианты HP — более «немецкие» и более «литературные». По ходу развития стихотворения немецкий «колорит», в котором был выдержан весь первовариант, отступал, высвобождая место более актуальному и личному. Схожая «дегерманизация» прослеживается при работе поэта над «Декабристом». ВНР редукция немецкой детализации напрямую связана с общей для позднего Мандельштама тенденцией к пропуску смысловых звеньев, зашифровыванию возникавших по ходу работы «черновых» метафорических ключей.
3.3. Немецкая тема в произведениях 1933–1937 годов
3.3.1. От Парацельса до Шпенглера:
немецкие культурные реалии в «упоминательной клавиатуре» «Разговора о Данте»
В 1932 году Мандельштам начал изучать итальянский язык и читать Данте. Вдова поэта вспоминала, что первое время он прибегал к подстрочным прозаическим переводам с немецкого, при этом предпочитая немецкие подстрочники французским, «потому что немцы, как переводчики, точнее французов» (Н. Мандельштам 1999: 288)[323].
В «Разговоре о Данте» Мандельштам развивает свои автопоэтологические положения на большом культурном материале, в том числе и немецком: так, Одиссеева речь 26-й песни Комедии «обратима… и к дерзким опытам Парацельса» (III, 238). «Ключевой признак сопоставления — смелость, дерзкость опытов Парацельса и дантовских тематических и метафорических рывков». А характеризуя фоноритмику 32-й песни «Ада», Мандельштам говорит о том, что «все это приплясывает дюреровским скелетом на шарнирах и уводит к немецкой анатомии» (III, 250). Характерно, что даже в контексте Дюрера Мандельштам отсылает не к немецкой живописи, а к «анатомии». В мандельштамовской концепции немецкой культуры практически начисто отсутствует немецкая живопись. Исключения немногочисленны: мимоходом, в контексте размышлений о грузинском искусстве упомянуты немецкие ренессансные портретисты. Немецкую живопись Мандельштам знал, но целенаправленно не тематизировал. Для сравнения можно взять тему живописи в рамках «французского комплекса». К французскому импрессионизму как теме Мандельштам обращался как в стихах, так и в прозе («Импрессионизм», III, 64–65; «Путешествие в Армению», III, 198–200). Различные сферы культуры приобретают у Мандельштама национальный характер: живопись отдана Франции[324]. Практически исключая живопись из немецкой культуры, Мандельштам косвенно подчеркивал невизуальность немецкой культуры, тем самым выделяя ее музыкальную и литературную стороны, которые и тематизировал. Для «Разговора о Данте» характерны ассоциации с Бахом. Так, монументальность дантовской «Комедии» Мандельштам связывает с органной музыкой немецкого композитора:
«Задолго до Баха, и в то время, когда еще не строили больших монументальных органов, но лишь очень скромные эмбриональные прообразы будущего чудища, когда ведущим инструментом была еще цитра, аккомпанирующая голосу, Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха, и ревел, и ворковал во все трубы» («Разговор о Данте», III, 225).
Характерен и сам принцип выстраивания дантовской «генеалогии наоборот». Явление более раннее определяется через более позднее, через «еще не». В контексте немецкой темы этот прием знаком нам по стихотворению «К немецкой речи», где время Христиана Клейста передается через еще не вступившего на литературную сцену Гете: «Еще во Франкфурте отцы зевали, / Еще о Гете не было известий…» Здесь по-своему действует мандельштамовская логика «радостных предчувствий». Причинно-следственные связи работают в оба хронологических направления. Таким образом, Мандельштам, выстраивая свою традицию преемственности, не сводит ее к простому эволюционированию.
Свое описание Данте Мандельштам выстраивает на образности, разработанной в стихотворении «Бах»: («ворковал во все трубы» в приведенном отрывке и «воркотня твоя» в «Бахе»), Но если в «Бахе» «воркотня» звучала негативно, то «ворковал во все трубы» — коннотировано позитивно. Оценки явления могут быть или могут стать у Мандельштама противоположными, но само явление описывается за счет метонимического углубления его константных признаков[325].
Мандельштам остается верен и идейному содержанию своих образов. В приведенном отрывке опять появляется проблематика аккомпанемента, соединения голоса и инструмента, поднятая в раннем «Бахе». По ходу «Разговора о Данте» Мандельштам вновь возвращается к Баху. Приведя в качестве примера «метафорических приемов» Данте отрывок из 26-й песни «Ада», Мандельштам замечает: «Если у вас не закружилась голова от этого чудесного подъема, достойного органных средств Себастьяна Баха, то попробуйте указать, где здесь второй, где здесь первый член сравнения, что с чем сравнивается, где здесь главное и где второстепенное, его поясняющее» (III, 236). Многосложность дантовских сравнений — продолжение того, что Мандельштам в «Бахе» назвал «органа многосложный крик». Бах выступает мастером полифонии.
Характерна эволюция тематической привязанности и функции Баха в творчестве Мандельштама. Бах уже в стихотворении «Бах» выступает не только как композитор, но и как носитель протестантской (метонимически-немецкой) эстетики. «Буйная рациональность» мандельштамовского Баха — одно из первых проявлений оксюморонности поля немецкого. В 1920-е годы, в ОВР и переводах из Бартеля, Мандельштаму в Бахе важно и интересно уже другое — соединение экстатики с монументальностью: в пространстве баховской темы сопрягаются барочная одичность и готика, поэзия и архитектура.
В своих рассуждениях о поэтике Данте Мандельштам прибегает к музыковедческой терминологии, которая тут же обрастает музыкальными метафорами и ассоциациями в духе нотных страниц «Египетской марки». Так, 33-я песнь «Ада» дана, по Мандельштаму, «в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого» (III, 245). Музыкально-музыковедческая ассоциация подкрепляется «авторитетом»: «Виолончель задерживает звук, куда бы она ни спешила. Спросите у Брамса — он это знает» (III, 246). Музыковедческий метафоризм соединяется с литературоведческим: история Уголино — «балладно общеизвестный факт, подобно Бюргеровой „Леноре“, „Лорелее“ или „Erl König’y“» (III, 247). Баллады, которые Мандельштам вспомнил в связи с историей Уголино, — немецкие, романтические: с ними поэт уже работал: с «Лорелеей» — в «Декабристе», с «Лесным царем» — в «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»[326]. В качестве примера баллады Мандельштам берет такие пред- и постромантические баллады, которые были наиболее известны в русской литературе и стали для русского читателя образцами жанра. Бюргеровскую «Ленору», известную в русской поэзии в трех (!) переложениях В. Жуковского («Людмила», «Светлана», «Ленора»), Мандельштам, судя по всему, прочитал (или перечитал) в оригинале в начале 1930-х годов: по свидетельству вдовы поэта, Бюргер был первой «немецкой» покупкой Мандельштама во время возобновившегося, благодаря Кузину, интереса к немецкой литературе (Н. Мандельштам 1990а: 226).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Валгаллы белое вино…»"
Книги похожие на "«Валгаллы белое вино…»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Генрих Киршбаум - «Валгаллы белое вино…»"
Отзывы читателей о книге "«Валгаллы белое вино…»", комментарии и мнения людей о произведении.