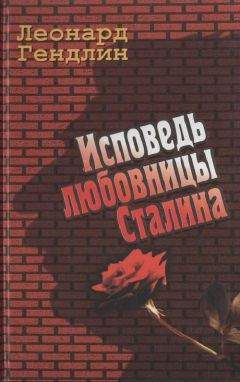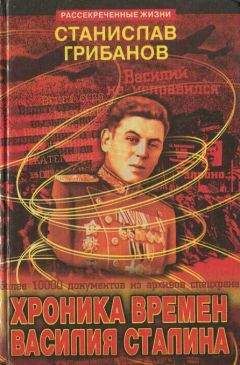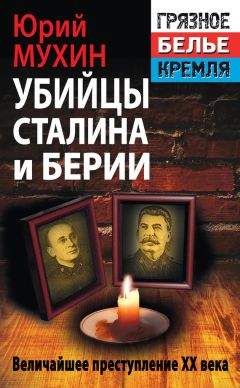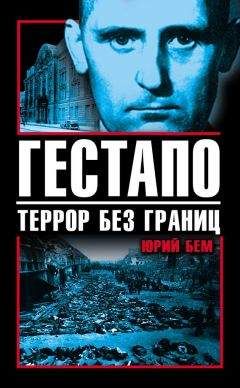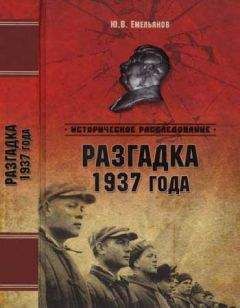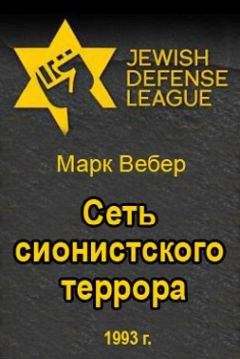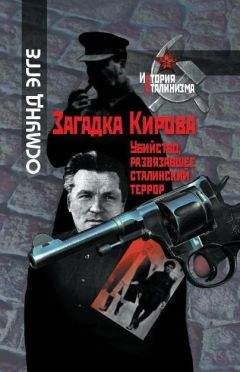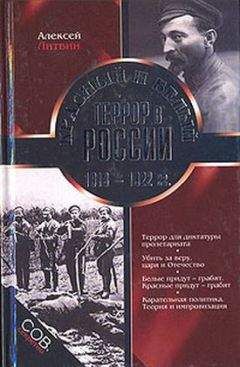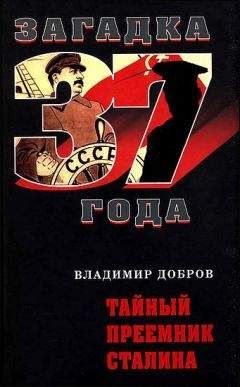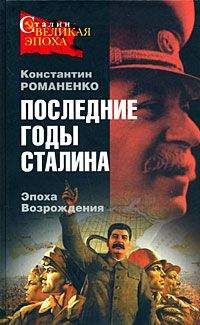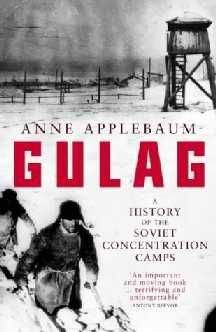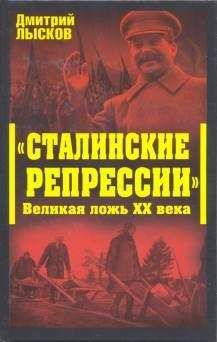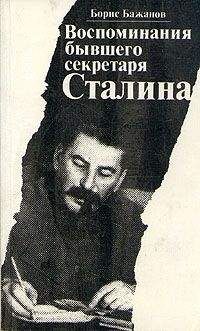Венди Голдман - Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий
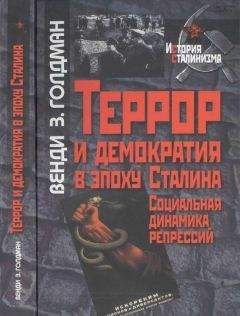
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий"
Описание и краткое содержание "Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий" читать бесплатно онлайн.
В.З. Голдман исследует социальную механику террора, показывает, каким образом репрессии превратились в массовое явление не только по количеству жертв, но также по числу преступников, которых они породили. Она широко использует уникальные архивные данные, которые до сих пор были засекреченными и недоступными для исследователей. Новые документы позволили отойти от прежних представлений, что единственным фактором развязывания террора стало стремление Сталина сосредоточить всю полноту власти в своих руках.
Автору книги удалось проследить, как террор, развязанный сверху «сползал» вниз через бюрократический аппарат профсоюзов, поразив на своем пути ВЦСПС, фабричные комитеты профсоюзов и его рядовых членов. Террор, утверждает она, был расчетливо направленным сверху ударом против оппозиционеров и «врагов народа», который повлек за собой массовую панику, коренным образом изменившую взаимоотношения в каждом советском учреждении, на каждом предприятии. «Саморазоблачения» захлестнули страну Никто не мог понять критериев, на основе которых выбирались жертвы, как и почему недавние друзья, родственники, знакомые, мужья и жены, в один день объявлялись «вредителями», «врагами народа» и прямо на партийных и профсоюзных собраниях арестовывались НКВД.
Исследование представляет интерес для историков советского периода, политологов и социологов, интересующихся вопросами политического, насилия, мобилизации народных масс и популистской компоненты террора, а также для всех, интересующихся советской историей.
Рабочие, занятые в легкой промышленности, проявляли серьезное недовольство. Наиболее массовые, координированные и продолжительные протесты происходили на предприятиях текстильной промышленности. Чтобы снизить текучесть рабочей силы и мотивировать рабочих к улучшению профессиональных навыков, государство повысило зарплаты в тяжелой промышленности до максимально возможного уровня. Разница в оплате труда ставила рабочих в неравноправное положение, особенно женщин, большинство из которых работало в легкой промышленности и на менее квалифицированных работах. Легкая промышленность вообще плохо финансировалась. Устаревшее оборудование часто ломалось, что сказывалось на заработках рабочих. Наиболее резкие протесты высказывали работницы текстильных фабрик. В апреле 1932 года в забастовках приняли участие более 16 тыс. текстильщиков Ивановской области.{116},[12] После того как в конце 1932 года государство уменьшило норму пайка для детей, на текстильных фабриках снова поднялась волна протестов. Когда на Лежневской фабрике партийные и профсоюзные работники пытались обсудить новую политику, работницы стали настаивать на проведении общефабричного собрания или собраний в цехах, протестуя против намерения руководства проводить собрания небольших групп работниц, где их легко можно было заставить замолчать. Получив отказ от профсоюзных работников, работницы заявили: «Тогда мы уходим». В ткацком цеху рассерженные женщины закидали вопросами парторга: «Можно ли отменить распоряжение по уменьшению норм продовольствия?» «Почему вы уменьшили нормы для детей?» В заключение они крикнули: «Ни в коем случае мы не можем уменьшить паек для детей». «Вы мучаете нас, — возмущались они. — Как долго вы собираетесь это делать?» На некоторых собраниях рабочие-коммунисты принимали сторону работниц и высказывались против официальной политики. Один член партии заявил под громкие аплодисменты: «Партия сейчас раскололась, не прислушивается к голосу масс. Только ответственные работники кормятся. Довольно терпеть, надо требовать, чтобы нас снабжали. Рабочий за партией не пойдет. Жить становится невозможно». С аналогичными протестами выступали рабочие и других фабрик.{117}
Несмотря на то что, работа в тяжелой промышленности, а также более квалифицированный труд оплачивались выше, протестовали не только работницы легкой промышленности. Увеличение норм производства, пересмотр шкалы заработной платы, нехватка еды, задержка зарплаты, — все это порождало протестные настроения и среди занятых в тяжелой промышленности. Кратковременные забастовки состоялись на металлургическом заводе в Никополе, на машиностроительном заводе «Красный факел» в Москве, на машиностроительном заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде, на шахтах Донбасса, среди докеров в Ленинграде, Архангельске и Одессе, а также на судостроительном заводе в Сормово.{118} На машиностроительном заводе им. Маленкова молодой рабочий, премированный за ударную работу, призвал рабочих к забастовке после того, как были увеличены нормы выработки. Он кратко изложил ситуацию: «После пересмотра норм снизились расценки, а кооперативы ухудшили снабжение, поэтому нужно уходить с завода». Наиболее агрессивно были настроены молодые рабочие. Ударники и партийные активисты часто играли ведущую роль. Когда в 1932 году вступило в действие новое правило неоплаты за производственный брак, у многих рабочих резко сократилась зарплата. Двое рабочих завода «Красный Путиловец» не вышли на работу после того, как были увеличены нормы, и вывесили объявление для второй и третьей смен с призывом не выходить на работу. Рабочие третьей смены также грозились не выходить.{119}
Повышение цен в январе 1932 года стало причиной забастовки в Москве, наиболее обеспеченном продовольствием городе. На заводе строительных материалов рабочие во время обеденного перерыва призывали начать общезаводскую забастовку. Они говорили: «Нам мало платят. Нормы высокие. Шкала заработной платы низкая. Цены растут. За что мы работаем? Что бы мы ни делали, мы полуголодные». Группа рабочих в знак протеста была готова разойтись по домам, но партийные и профсоюзные чиновники убедили ее остаться. Последовали многочисленные «разъяснительные беседы», но они не убеждали рабочих. «Это неправильно. Вы очки нам втираете», — раздавались выкрики. В Донбассе рабочие в ответ на рост цен выступили с антисоветскими лозунгами.{120}
Рабочие отказывались работать и в тех случаях, когда руководство не платило зарплату или не обеспечивало их продовольственными карточками. В 1932 году рабочие «Вишхимзавода», химического завода на Урале, не вышли на работу после того как им не выдали заработную плату{121} На заводе не хватало топлива и сырья, и вероятнее всего директор использовал фонд заработной платы на поддержание производства. Рабочие Мытищинского вагоностроительного завода в Московской области не получили зарплату в ноябре 1932 года. Маляр в отчаянии пошел в партком завода: «Вам нужно отрубить голову. Вы все время пропагандируете, что сейчас у нас так называемые трудности на финансовом фронте, которые нам нужно преодолеть. Я хочу сказать вам, что больше терпеть невозможно. Через 3 месяца поднимется бунт. Я не могу жертвовать собой и жизнью своих детей, я больше не могу терпеть».{122} В 1933 году в Ленинградской области семьдесят рабочих Ижорского машиностроительного завода прекратили работу на три часа, протестуя против того, что они не получали продовольственные карточки или зарплату за три месяца.{123} Рабочие Провского завода в Восточной Сибири объявили «итальянку» (снижение темпа работы) после того, как администрация не выдала продовольственные карточки на муку Рабочие двух цехов прекратили работу на три часа. Когда рабочим стекольной фабрики в Иваново не выплатили зарплату за два месяца, они предъявили ультиматум: «Заплатите нам в течение ближайших 2-х часов или мы разгромим фабрику».{124} После того как в 1932 году на локомотивном заводе «Людиново» в западном регионе была урезана продовольственная норма, рабочие призвали к забастовке. Половину трудового коллектива составляли новые переселенцы, все еще кипевшие злобой по поводу коллективизации. Меньшевики и социалисты-революционеры[13] также вели активную деятельность на заводе, предлагая осудить политику большевиков. Рабочие ремонтного цеха собрались в вагоне поезда и послали небольшую делегацию в другие цеха с целью организовать поддержку забастовки. Первого мая кто-то нацарапал призыв на стене в цеху: «Рабочие! Верните власть Советам!». Это был лозунг, основанный на революционном призыве: «Вся власть Советам!», который был популярен в 1917 году, но впоследствии подрывавший диктатуру партии. Присоединиться к стачке забастовщики призвали рабочих соседней стекольной фабрики. Упреждая забастовку, районный партийный комитет быстро реквизировал и раздал два вагона хлеба. Все же это были временные меры. Местный представитель ВЦСПС отметил, что рабочие не получали хлеба и сахара в июне, и ситуация с продовольствием продолжала оставаться весьма угрожающей.{125}
Вся история трудовых отношений до сих пор скрыта в архивах НКВД и партии. Разрозненные данные, собранные в этой книге, позволяют предположить, что протестовали не только занятые в скудно финансируемой текстильной промышленности, с низкой оплатой труда, рабочие протесты происходили повсеместно: и в тяжелой, и в легкой промышленности, в Москве и Ленинграде, на дальних стройках и шахтах. Новые рабочие, приезжавшие в города из деревень, рабочие старшего возраста, высококвалифицированные и малоквалифицированные, женщины — все участвовали в протестах. Последние характеризовались кратковременностью, спонтанностью, но были действенны, поскольку руководство и чиновники немедленно на них реагировали. Чудесным образом выплачивалась зарплата, задерживаемая недели и месяцы; немедленно доставлялись продукты в магазины. Эти срочные меры были эффективными при подавлении протестов, но не меняли принципиально ситуации. Хотя в середине 1930-х годов положение рабочих улучшилось, к концу 1930-х годов оно снова стало ухудшаться, поскольку страна начала готовиться к войне.
Сомнения в партии
Напряжение, созданное индустриализацией, не только подорвало доверие рабочих к партии, но и стало причиной разногласий в ее рядах. Занимавшие руководящие посты бывшие оппозиционеры, потрясенные голодом и страданиями людей в городах и деревнях, обсуждали альтернативы сталинскому руководству и политике. Рядовым членам партии становилось все сложнее поддерживать курс партии. Рабочие-коммунисты испытывали те же трудности, что и беспартийные. Например, секретарь партийной ячейки и другие члены партии вместе с рабочими металлургического завода им. Петровского, страдали от недоедания.{126} Рабочие — члены партии чаще относились с сочувствием к жалобам своих товарищей, чем к партийной политике. Многие рабочие, имевшие родственников в деревнях, осуждали коллективизацию за дефицит продовольствия и отвергали лозунги партийной пропаганды о процветания на селе. Старейший рабочий машиностроительного завода «Компрессор» в Москве, член партии с тридцатилетним стажем сердито спросил на собрании: «Почему в 1924 году у нас была вкусная еда и одежда, а сейчас ничего нет?» Другой, старший по возрасту рабочий ответил, открыто осуждая коллективизацию: «Здесь плохо с продовольствием, и я думаю, причиной этого является коллективизация крестьянства. Колхозы не выполняют требований по производству продуктов. Если бы каждый крестьянин мог вырастить больше скота, то могло бы быть больше мяса и других сельскохозяйственных продуктов на рынках».{127} Кандидат в члены партии и рабочий фабрики им. 1905 года также заявил, что отсутствие продуктов в городах связано с трудностями коллективизации. «Предположим, сейчас нет военного коммунизма, — сказал он, ссылаясь на политику большевиков, которые принудительно конфисковали зерно во время Гражданской войны, — но крестьян и колхозников грабят хуже, чем при военном коммунизме».{128} Хотя руководители партии и ожидали подобных чувств со стороны «отсталых» переселенцев из деревни, эти настроения были широко распространены среди партийных и беспартийных рабочих, которые постоянно общались со своими родственниками на селе и приносили новости на заводы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий"
Книги похожие на "Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Венди Голдман - Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий"
Отзывы читателей о книге "Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий", комментарии и мнения людей о произведении.