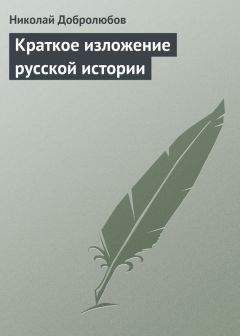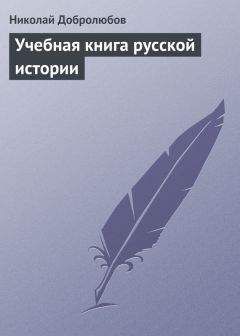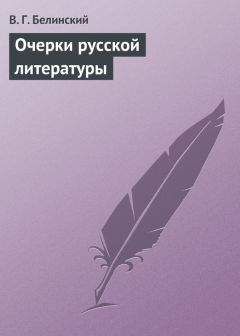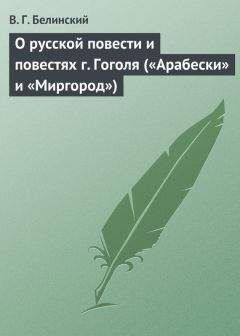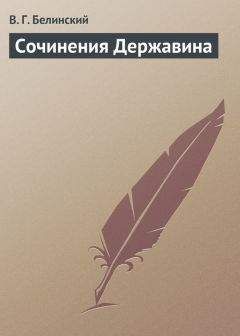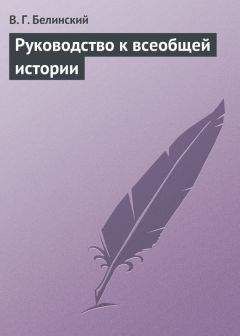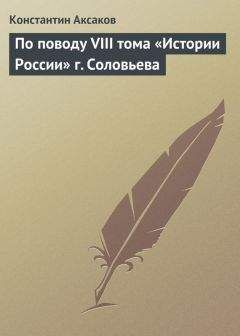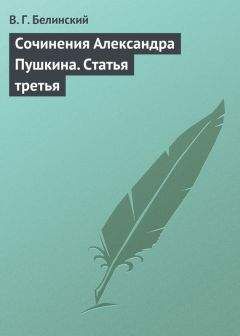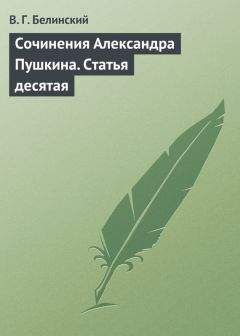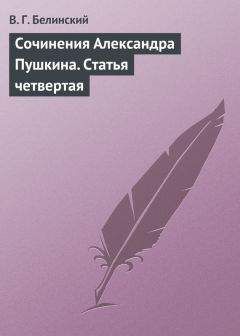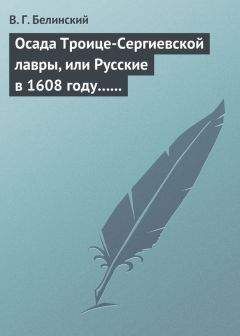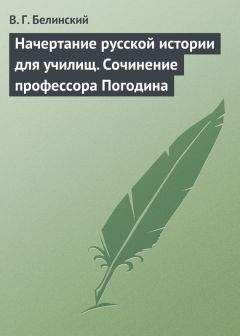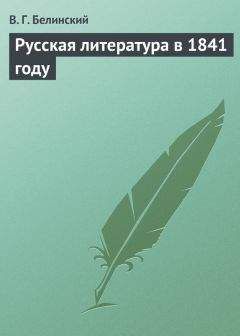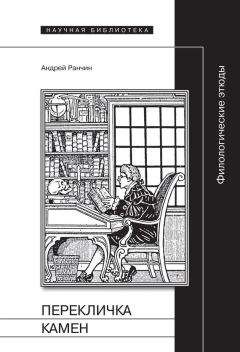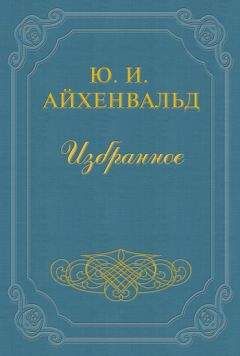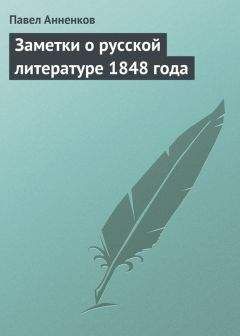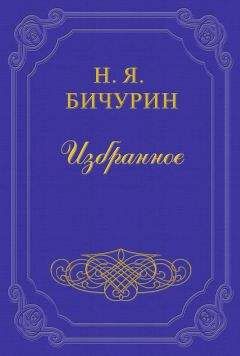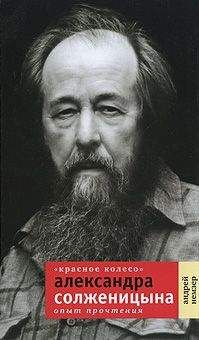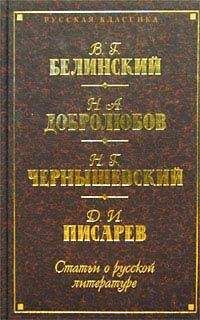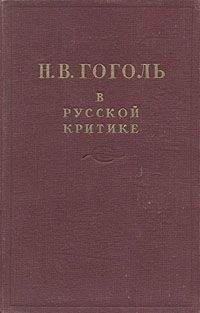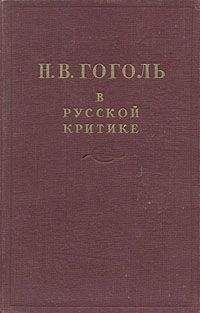Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы"
Описание и краткое содержание "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы" читать бесплатно онлайн.
Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор. Главным героем не только своей книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта – В. А. Жуковского.
План Кикиморы точно следует пророчеству второй песни ямщика; его «новое» оказывается на поверку кое-кем (но не Поэтом и стоящим за ним автором мистерии) забытым старым. Встречая в словесности второй половины 1830-х – начала 1840-х годов «повторения» своих давних, не всегда успевших воплотиться решений, Кюхельбекер испытывает одновременно чувство притяжения и отталкивания, в дневнике и письмах он часто напоминает и о своем приоритете, и об исчерпанности некогда привлекавших его художественных ходов, иной раз почти восхищаясь теми, кто сумел в дерзаниях пойти до конца. В первую очередь, это относится к Лермонтову.
Согласно позднему Кюхельбекеру эффектное наказание грешника упрочивает позиции сил зла (вспомним уверенность Буки в обреченности Ижорского и прочих Евиных детей). Живописание страстей, пороков и ими обусловленных гибельных финалов опять-таки оказывается на руку бесовскому племени (недаром все же Кикимора уделяет такое внимание проблемам эстетики и поэтики). Отсюда необходимость для Кюхельбекера радикальной перестройки первоначального плана мистерии.
1978, 1998О славной поэме, бесславной мистерии и достославном романе в стихах
В кишиневском письме от 23 марта 1821 Пушкин взывал к Дельвигу: «Напиши поэму славную, только не четыре части дня и не четыре времени, напиши своего “Монаха”. Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая – твой истинный удел»[79]. Несомненно речь идет о давнем замысле Дельвига: эпистолярные контакты друзей после отбытия Пушкина на Юг были минимальны (здесь же Пушкин сетует «до меня дошло только одно из твоих писем <…> ты не довольно говоришь о себе»), а ироническое цитирование послания А. Ф. Воейкова «К Ж<уковскому>» (1813)[80] не только указывает на жанровую антитезу (истинная поэма должна быть «байронической», а не «описательной»), но и шутливо намекает на медлительность адресата, способную свести на нет богатый «план». (Как известно, загодя воспетая Воейковым поэма Жуковского «Владимир» так и не была написана.) Учитывая известную склонность Дельвига к устным рассказам о будущих сочинениях, легко предположить: в Петербурге (или еще в Лицее) он поведал Пушкину о некоем замысле. Любая его реконструкция заведомо спорна, но характеристики, которые Пушкин дает чаемой поэме, указывают не на комический («антиклерикальный») извод жанра (в духе пушкинского «Монаха»), а на совсем иную традицию.
Кажется вероятным, что Дельвиг намеревался вышивать свои узоры по канве романа М. Г. Льюиса «Монах» (1796), точнее – по его русской версии – «Монах францисканский, или Пагубные следствия пылких страстей. Сочинение славной г. Радклиф» (СПб., 1802–1803; 4 части; пер. с французского И. Пвнкв <И. Павленков> и И. Рслкв <И. Росляков>; 2-е изд. – 1805[81]). В поддержку этой версии можно выдвинуть три аргумента. Во-первых, это популярность романа Льюиса («квази-Радклиф») в кругу обычных, далеких от интеллектуальной элиты, читателей. (Дельвиг родился в типичной «среднедворянской» семье обрусевших немцев, не слишком отягощенных «культурой»; до поступления в Лицей он не знал иностранных языков. Русский извод «Монаха» вполне мог входить в круг его отроческого чтения.) Во-вторых, известен устойчивый интерес Дельвига к «страшным» и «мистическим» сюжетам[82]. В-третьих, показательна легкость с которой Пушкин «переводит» замысел Дельвига в ставший для него актуальным «байронический» регистр. (Бредить Байроном Пушкин начинает только на Юге, а опереди Дельвиг своего однокашника на байронической стезе в петербургские годы, этот удивительный факт был бы как-то зафиксирован.)
Сближение «готического» и «байронического» кодов было осуществлено двумя годами позднее – в первой главе «Евгения Онегина», ориентированной одновременно на «Дон Жуана» Байрона и роман Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец». Эта тенденция представляется нам важной и для «романа в стихах» как целого, где Мельмот занимает достойное место в ряду байронических (или околобайронических) «образцов» протагониста, а «жизнеподобное» повествование о современности подсвечивается фантастическими мотивами (демоническо-разбойничья ипостась Онегина в сне Татьяны; намеки на продолжение «разбойничьей» линии в оставшейся скрытой от читателя истории Онегина между убийством Ленского и новой встречей с Татьяной; финальное воздаяние герою, напоминающее о развязке дон-жуановского сюжета[83]).
В этой связи представляются очень важными основательные соображения, во-первых, о связи «Евгения Онегина» и пушкинского «Влюбленного беса», а во-вторых, о «петербургском» генезисе второго замысла[84]. Неожиданным и сильным тому подтверждением служит письмо Кюхельбекера Дельвигу от 18 ноября 1830. Отправляя другу первую часть мистерии «Ижорский», динабургский узник просит напечатать ее «под псейдографическим именем Космократова Младшего (буде Пушкин позволит)»[85]. Либо оторванный от литературной жизни Кюхельбекер угадал в повести «Уединенный домик на Васильевском» («Северные цветы на 1829 год») некогда слышанный им (в Петербурге или в Лицее) пушкинский рассказ, либо он каким-то образом узнал, что «Уединенный домик…» – запись истории, рассказанной именно Пушкиным. Второй вариант представляется крайне сомнительным: во-первых, «творческая история» «Уединенного домика на Васильевском» была ведома лишь тем, кто слышал пушкинскую историю в доме Дельвига или салоне Карамзиных (даже Жуковский не знал, что повесть изобретена Пушкиным и лишь записана В. П. Титовым); во-вторых, странно предположить, что Дельвиг (и тем паче кто-то иной), получив счастливую возможность связи с заключенным, сообщит ему пусть забавный, но отнюдь не принципиально важный литературно-бытовой сюжет; в-третьих, знай Кюхельбекер, «как все обстояло на самом деле», с чего бы ему испрашивать право пользования псевдонимом у Пушкина (а не у Титова). Но даже такое странное стечение обстоятельств не отменяет сути просьбы Кюхельбекера, которому зачем-то нужно обозначить связь между собственной мистерией и повестью Тита Космократова. Между тем это желание становится понятным, если предположить, что Кюхельбекер был знаком с давним пушкинским замыслом и предполагал (наверно, не без оснований), что Пушкин и Дельвиг тоже узнают в «Ижорском» нечто им знакомое.
Общие очертания сюжета (и стоящая за ним идеологическая концепция) «Ижорского» были ясны Кюхельбекеру уже при начале работы над мистерией (датируем его летом 1824 г., или, что менее вероятно, 1825 г.). Уже в 1-м явлении I действия Части первой звучит песня ямщика, пророчащая участь «русского Фауста», которому суждено от скуки согласиться на союз с нечистью, двигаться от разочарования к преступлениям и в итоге погибнуть. Роль орудия возмездия отводится силам зла (ср. песню ямщика – «Как молодчика взманила / Баба водяная, / Удалого потопила / Глубина речная» – и попытку Кикиморы в «метатекстовом» 2-м явлении II действия Части третьей навязать Поэту эффектную развязку – гибель Ижорского в объятьях «Ундины Невы», превращающейся в реку[86]).
Кюхельбекер отказался от «карающей» развязки (предпочтя направить героя на путь покаяния) уже в Части второй, где совершивший множество злодеяний Ижорский спасен Добрым духом от готовых торжествовать сил зла[87]. Нам, однако, важно, что его первоначальный замысел строился по той же модели истории о великом грешнике, что и «Монах», «Мельмот Скиталец», «Влюбленный бес» (линия смертного – «развратного» – персонажа, ставшего Павлом в «Уединенном домике на Васильевском») и, в определенной мере, «Евгений Онегин». Не отрицая значимости общеевропейской традиции, полагаем, что свою роль здесь сыграло тесное общение трех лицеистов, совместное обсуждение модных «страшных» сюжетов, еще не получивших прав гражданства в высокой русской литературе, и конструирование собственных планов на их основе. Не трудно предположить (и трудно оспорить), что замышлялось «склонение» европейских «ужастиков» на русские нравы, что и было потом явлено как в «Евгении Онегине», так и в «Ижорском». При учете этих обстоятельств становится понятным, почему герои мистерии Кюхельбекера и романа Пушкина носят фамилии со сходной семантической окраской (северо-западный, «околопетербургский» гидроним). Кюхельбекер в 1825 году был знаком лишь с первой главой романа в стихах, но уловил в ней «готическо-байронический» привкус – и дал на него свой «антибайронический отзыв». Если герой Кюхельбекера был поименован до появления пушкинского текста в печати (что вполне возможно), то стимулом такой номинации могло стать включение пушкинского персонажа – чье имя было уже на слуху – в контекст давних бесед о «страшных» героях еще ненаписанных поэм. Отсюда же зримые сюжетные и «характерологические» переклички «Ижорского» и «Евгения Онегина». При наших весьма смутных представлениях как о времени работы над Частью второй «Ижорского», так и о хронологии знакомства узника Кюхельбекера со второй-седьмой «онегинскими» главами объяснять их полемическими репликами на текст Пушкина представляется более рискованным, чем предполагать общий – во всех смыслах – источник. Отсюда же согласие Дельвига на публикацию повести Титова в «Северных цветах» и желание Кюхельбекера выдать «Ижорского» в свет под «братским» псевдонимом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы"
Книги похожие на "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы"
Отзывы читателей о книге "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.