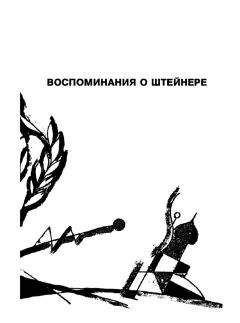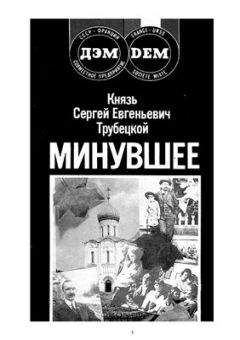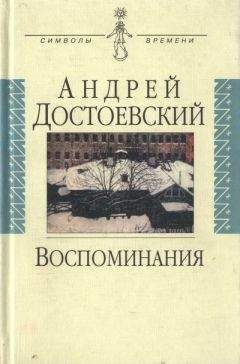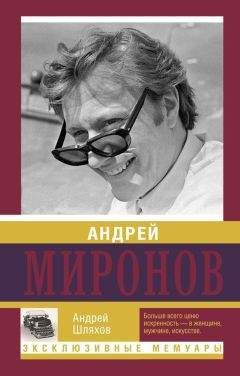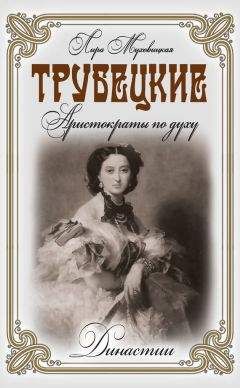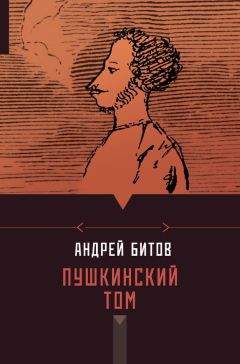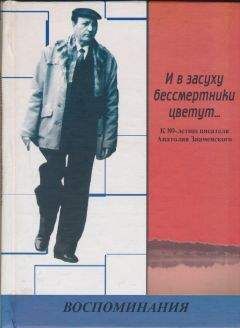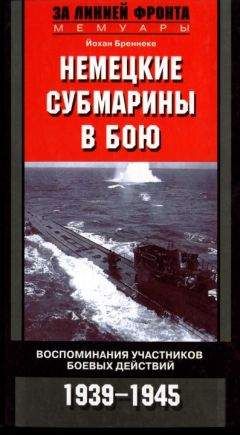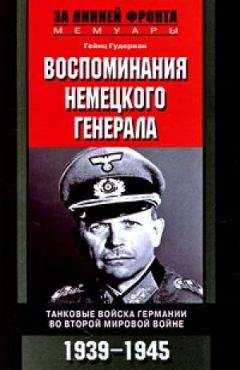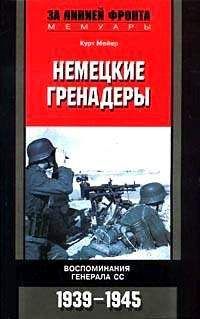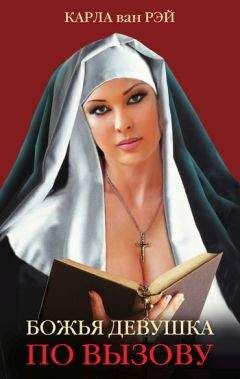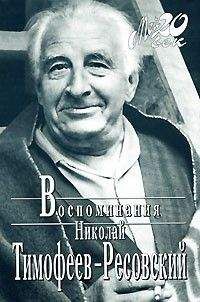Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
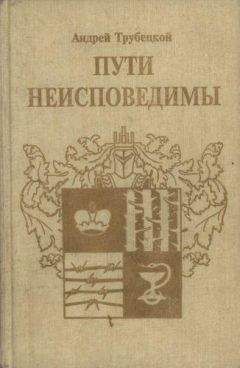
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Описание и краткое содержание "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания о лагерном и военном опыте Андрея Владимировича Трубецкого, сына писателя Владимира Сергеевича Трубецкого.
Я за эти долгие минуты пережил и перечувствовал многое. Почувствовал, что золото — сатанинский металл, и дал себе зарок никогда подобными делами не заниматься. Действительно, попадись мы людям другого склада — неизвестно, чем бы все это кончилось для нас.
Долго мы с дядей Мишей не могли придти в себя, а на другое утро покинули Минск с чувством большого облегчения. В Новогрудке я не удержался и поначалу напугал Марылю, а потом вернул ей деньги, рассказав все подробности.
Близился 1943 год. Однажды вечером дядя Поля получил через Красный Крест письмо, в котором тетя Вера, сестра матери и, к тому же, моя крестная мать, жившая в Англии, сообщала, что моя мать — Елизавета Владимировна — пишет, что пропал ее сын Андрей, то есть я. Моя мать пишет! Пишет, значит жива и здорова! А уж меня в минуты мрачных раздумий посещали такие страшные видения. Я гнал эти мысли, но потом, два года спустя с ужасом узнал, что последние месяцы и дни моей матери были именно такими.
Дядя Поля спросил, надо ли писать, что я жив-здоров и нахожусь у него. После мучительных раздумий я, боясь как бы это не повредило матери, сказал, что лучше не писать (вот ведь что делает страх перед «всеведением» и «всемогуществом», как мне представлялось, наших «органов»). К счастью, дядя не послушался меня, о чем я узнал много позже. Но дошло ли это известие до матери, я так и не знаю. Похоже, что не дошло[10].
Новый, 1943 год, мы с Михаилом встречали в семье местной белорусской интеллигенции, у неких Тихоновичей, за дочкой которых немного ухаживал Михаил и одновременно молодой врач Иван Гутор. На этом вечере было и восходящее белорусское светило, некто Борис Рагуля — скуластый парень. Я его видел и запомнил еще в начале 1942 года, когда нас, жителей имения Щорсы, пригласили в Любчу на самодеятельный концерт, состоявшийся уж не помню по поводу чего. (Из репертуара мне запомнилась белорусская песня на мотив нашего марша «Все выше», где вместо этих слов хор выкрикивал: «На пэрад» — вперед.) На концерт пришли немцы. Один из них, молодой, но уже в чинах, отдавал лающим голосом приказания белорусскому парню в форме, вытянувшемуся и прижавшему ладони к бокам. Этот парень в ответ на каждое приказание щелкал каблуками и очень громко орал: «Яволь!» Чувствовалось, что обоим все это страшно нравится: одному — как его слушаются, другому — игра в солдатики, да еще с немцами. По всему было видно, что делал он это от души. Это и был Рагуля. К моменту новогодней встречи он был уже большим начальником в белорусских вооруженных силах, созданных немцами. Это был уже не тот юнец, игравший в солдатики, а человек зрелый, и о немцах отзывался весьма пренебрежительно.
Там же, на новогоднем вечере, сговорились встретиться еще раз, только в мужской компании. Хозяин этой встречи работал чиновником в магистрате и снимал небольшую комнату в деревянном доме около больницы. Собралось нас человек десять. Был и Рагуля. Вечер начался чинно-благородно: разговоры о судьбах народных, славянах, немцах, игра в бридж. Тем временем хозяин устраивал стол. Из высказываний Рагули я вынес впечатление, что, по его мнению, «нечего проливать свою белорусскую кровь за немцев» (много позже сведущие люди из белорусов рассказывали, что после войны он остался у союзников с двумя дивизиями. Так ли это — уж и не знаю). Самогонки было выставлено изрядно, и гости перепились выше всякой меры. А перепившись, стали все, что под руку попало, ломать. Сигналом к этому были слова хозяина: «Вы, хлопцы, только с посудой поосторожней, она чужая». Все, что можно было разбить и сломать, было разбито и сломано: стол, стулья, этажерка. Михаил яростно метал блюдца с оставшейся закуской в кафельную печь. Сигналом к разрушению стола были опять-таки мольбы хозяина: «Хоть стол не трогайте, он магистрацкий». — «Ах, магистрацкий! Сейчас мы его!..» Кончилось это все стрельбой того же Рагули из пистолета в потолок. Ехали мы с Михаилом домой через весь город на щорсовских санях и во все горло орали пароль «Рома», сообщенный Рагулей. На другой день зашли проведать устроителя этого «приема» и застали его в пустой комнате перед кучей иилимкив, черепков и объедков. «Все нашел, а вот графинчика найти не могу»,— сокрушенно сетовал он. Да; вот вам и звучавшие вчера высокие слова о достоинствах славян! Потом Михаил предложил скинуться, чтобы как-то возместить ущерб, но собутыльники говорили, что у пострадавшего денег много[11].
В конце января было получено разрешение на выезд из Белоруссии. Сборы были недолгими. Кое-какие вещи были проданы заранее. В последнюю поездку в Щорсы я увез из «Белого дома» замечательный рояль «Блютнер», который за бесценок продали преуспевающему фольксдойчу. В Щорсах я трогательно попрощался с милейшей Анной Михайловной и панной Леонтиной. Но вот и прощанье с нашими хозяйками в Новогрудке, затем узкоколейка в Нивисльню, пересадка в поезд; идущий в Лиду. Там еще пересадка в поезд к немецкой границе.
В Новогрудке нам дали новые удостоверения личности, отпечатанные типографским способом на желтом картоне, и, кроме того, пропуск на плотной голубой бумаге сроком на три месяца без указания конкретного места назначения в самой Германии — любезность местных властей по отношению к дяде Поле. В своем пропуске и удостоверении я прочел: «Andreas Furst Trubezkoi» то есть «Андрей князь Трубецкой». Это меня не то, чтобы возмутило, но сильно задело, и я начал горячо возражать, что слово «князь» совершенно не надо было указывать, что всю жизнь оно было только причиной всевозможных неприятностей, а теперь я этим, вроде бы, пользуюсь, и, вообще, какой я там князь и т. д. и т. п. Оба дядюшки долго меня убеждали, что в этом ничего дурного нет, что это мне поможет за границей и что я, действительно, князь и прочее. Изменить я тут уже ничего не мог, но выражал протест, что без меня был решен такой щекотливый вопрос.
Итак, шел февраль, и мы ехали на запад. В Лиде долго пробыли на станции, где на соседних путях стояли законсервированные наши паровозы «ФД» и целый состав танков «КВ». К вечеру поезд тронулся. Теперь мы ехали уже втроем, так как дядя Миша отправился в Каунас ликвидировать свои дела. Ночью в Волковыске сделали еще одну пересадку. В военной станционной столовой нас бесплатно покормили по предъявленным пропускам. Обслуживали немки, из репродуктора доносилась музыка, что-то знакомое, опереточное. Совершенно иной мир. На другой день проехали Белосток, в котором мое внимание привлек огромный серый костел в стиле модерн. В Лыкке, на самой границе Восточной Пруссии сделали последнюю пересадку — давались они нам нелегко, ведь везли мы с собой массу продуктов. Но вот мы в поезде Лыкк-Кенигсберг, конечный пункт нашего пути, где жила семья Н. С. Арсеньева, давнего доброго знакомого Бутеневых.
Купе второго класса, мягкие, чистые диванчики, чинно сидят чистокровные немцы и немки, читают, степенно переговариваются. Поздно вечером мы были в Кенигсберге. Крытый перрон, большой вокзал. Сдали вещи и вышли в темный город. Трамвай! Последний раз я видел трамвай в Москве. Поехали. В вагонах тускло горят синие лампочки. В занавешенных окнах есть только горизонтальные просветы засиненного стекла. В них иногда видны силуэты больших черных домов без единой светлой щелочки. Ехали долго, прогромыхали по двум мостам. Вылезли и пошли по темной широкой улице (Hammer Wed) с небольшими двух-и трехэтажными домами, обсаженными деревьями. Миновали один или два перекрестка, свернули налево на Regenten-strasse, вошли во дворик второго дома, поднялись на второй этаж и попали в объятия к Арсеньевым, в милую, как будто давно знакомую и родную русскую семью.
Глава 3. В ГЕРМАНИИ
Семья Арсеньевых состояла из профессора славянской культуры Кенигсбергского университета Николая Сергеевича, человека преклонного возраста, совершенно седого и несколько подслеповатого, его брата, Юрия Сергеевича, симпатичного, простецкого человека, служившего техническим секретарем в японском консульстве. (В одном из первых разговоров он, показывая свою несколько изуродованную руку, сказал, улыбаясь: «Это меня красные курсанты под Псковом».) С ними жила их сестра Наталья Сергеевна, тетя Ната, милая, скромная и деликатная старушка, и ее сын, Сергей Балуев, симпатичный, открытый и доброжелательный парень на год моложе меня, учившийся на медицинском факультете университета. Главой семьи был Николай Сергеевич — дядя Никола. В дни нашего приезда в доме гостила вторая сестра Арсеньевых, жившая постоянно в Берлине, Вера Сергеевна. Я ее смутно помнил еще по Москве. Со своим братом, Василием Сергеевичем Арсеньевым, его женой тетей Олей, своим мужем Гагариным (не князем), моим большим приятелем детства Алешкой Нарышкиным, по прозвищу «Сарепа», и его, матерью Вера Сергеевна выехала за границу в самом начале 30-х годов. Все они были «выкуплены» дядей Николой[12].
До выезда жили они в Москве в доме 22 на улице Садовники, а Алешка с матерью в Сергиевом Посаде на Красюковке, недалеко от места, где в то время жили мы. Сейчас он жил в Берлине у дяди Васи, а его мать — у родственников в Швейцарии. Была она не совсем нормальной после того, как в конце двадцатых годов расстреляли ее мужа. Он был взят как заложник после убийства Войкова. Фамилии расстрелянных были напечатаны в газетах, и я помню, как мальчишки на улице дразнили бедного Алешку: сын расстрелянного! сын расстрелянного! Конечно, и на нем это отразилось, был он очень нервным, чувствовался душевный надрыв. Он безумно любил мою сестру Татю, хотя они были почти дети, и после отъезда за границу от него приходили к ней письма. Писал он и в Андижан, куда мы переехали в 1934 году вслед за высланным туда отцом и старшей сестрой Варей. В письмах Алешки ощущалась большая тоска, было понятно, что живет он в абсолютно чуждом ему мире.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Книги похожие на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Отзывы читателей о книге "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)", комментарии и мнения людей о произведении.