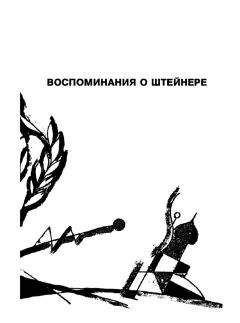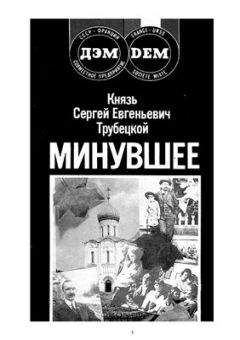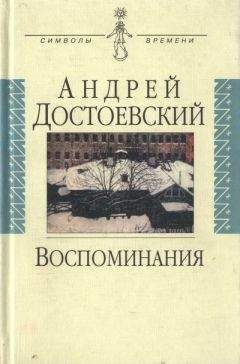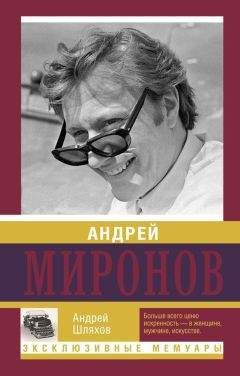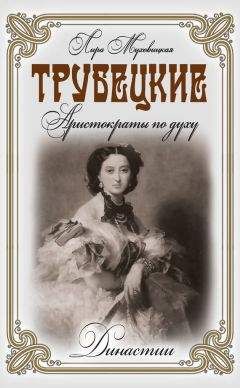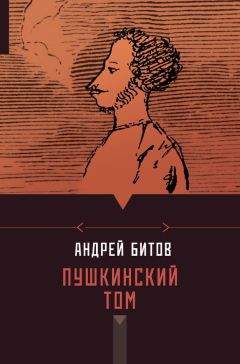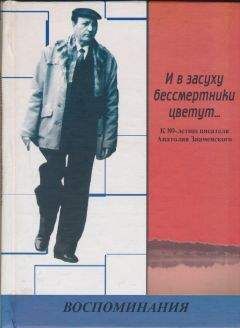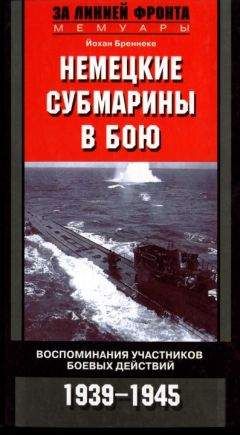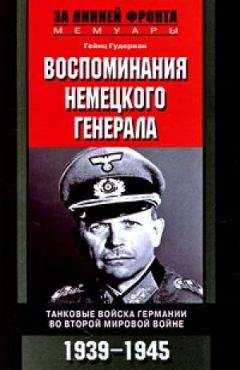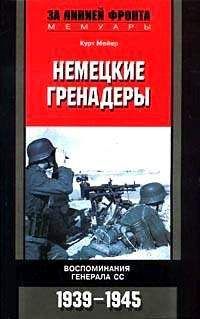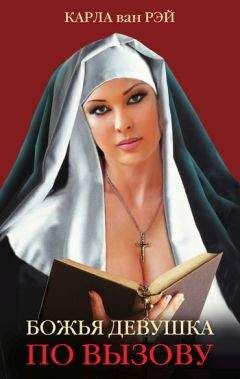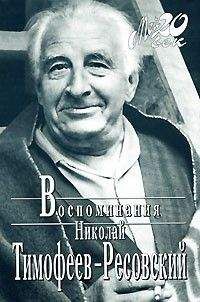Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
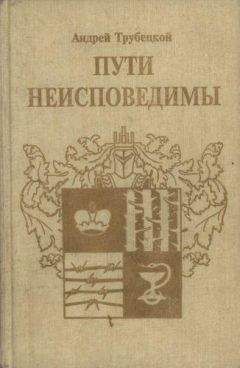
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Описание и краткое содержание "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания о лагерном и военном опыте Андрея Владимировича Трубецкого, сына писателя Владимира Сергеевича Трубецкого.
Много японцев жило и в Корсакове (японский город Отомари). Там были целые кварталы, где они обитали в узеньких улочках с деревянными домами. Все дымоходные трубы нижних этажей шли снаружи, прикрепленные к стене многочисленными перекладинками. Экзотично выглядела и японская пожарная команда, пронесшаяся однажды по городу. На улицах везде лавочки и просто уличные торговцы жареной соей. В столовых на столах деревянные палочки в бумажной обертке по две — это японские ложки. Пользуются ими японцы очень споро: густую похлебку подают в пиалах, жижу они выпивают, а остальное ловко выхватывают палочками, зажатыми в пальцах одной руки, и отправляют в рот. Нам понадобилась дистиллированная вода, и мы трое — Воскресенский, Орест Скарлато и я — люди все рослые, отправились на бумажный завод. Рабочие японцы высыпали из цехов глазеть на таких, по их мнению, великанов.
Наконец к нам прибыл долгожданный сейнер «Вест». Был он в длину восемнадцать метров, в ширину — пять и водоизмещением двести тонн, имел носовую и кормовую каюты, американский мотор от танка в сто пятьдесят лошадиных сил, капитана, помощника, двух механиков, матроса (все русские) и еще четырех матросов-японцев, из которых только молодой парень Сато кое-как говорил по-русски. Русская половина команды была примечательной. Все это были молодые ребята, как выяснилось позже, особенно не отягощенные знаниями навигации. Они рыбачили только у берегов и в открытое море не ходили. Механики — совсем мальчишки: старшему лет восемнадцать, младшему и того меньше. Эта компания о завтрашнем дне особенно не думала. Капитан и его помощник носили фуражки с «крабами» и только тем отличались от своей команды. В те времена еще была карточная система. Русская часть команды забирала продукты вперед чуть ли не на месяц, садилась в рулевую рубку и съедала сахар, конфеты, масло и хлеб. Крупа оставалась. Из нее варили похлебку, а когда под рукой не было свежей рыбы, то из какого-то запаса вынималась невероятно соленая горбуша, привязывалась веревкой (линем) и бросалась за борт отмокать. В общем, публика эта была беззаботной и малосимпатичной за исключением одного матроса. Он был и разумнее, и дельнее капитана с помощником и двух механиков вместе взятых.
Только потом, когда выяснилось, что наш сейнер — судно никудышное (он постоянно ломался), стало очевидным, что сахалинское рыбное начальство отрядило нам все это не случайно: шла путина, и нам выделили самое негожее. Кстати, эту путину мы видели так: в порт прибывали сейнеры, на палубах которых лежала серебристая горбуша. Ее наваливали на грузовики и отправляли на разделочные пункты — навесы под открытым небом, где женщины в фартуках вспарывали животы рыбинам и вываливали красную икру в бочки. По пути следования грузовиков их караулили около какого-нибудь мосточка мальчишки. Они цеплялись за борт машины, когда та притормаживала, и выбрасывали за борт одну, две рыбины. В столовых была только горбуша.
В Тобути мы погрузили имущество на сейнер и пошли в Корсаков заправляться горючим. Там же производили так называемую девиацию компаса — его отклонение в связи с размещением на палубе новых больших железных предметов. Девиацию проводил специально приглашенный офицер. Он указал, где и под каким углом к ориентирам на берегу поставить сейнер на рейде, и отметил, на сколько градусов компас ошибается в указании на север. Перед самой отправкой сели на мель при отливе у пирса. С мели нас сталкивал бревном грузовик — случай в морской практике, наверное, редкий. Вернувшись в Тобути, справив отвальную, наконец-то тронулись на Курилы. Наш выход из лагуны не обошелся без казуса. Когда мы мчались по проливу, уносимые отливом, двое пограничников стали кричать с берега, чтобы мы вернулись. Капитан кричал им в мегафон, что «добро» получено на заставе, но те требовали возврата, а сейнер, увлекаемый быстрым течением, летел мимо. Тогда пограничники начали стрелять в нашу сторону, а капитан — разворачивать сейнер в довольно узкой протоке. Однако пограничники раздумали требовать нашего возврата и мирно пошли своей дорогой. Ох, как мне хотелось ругаться! Я просил двух наших девиц — Веру Короткевич и Розу Кудинову — спуститься вниз, а те, понимая мое неодолимое стремление высказаться, только хохотали и подзадоривали меня.
Обедали мы в открытом море прямо на палубе. В полном покое провели день и на следующее утро увидели берег острова Итуруп, показавшийся из туманной мглы. Одновременно в поле зрения попали фонтаны и черная спина кита, маячившего метрах в трехстах от нас справа по курсу. В любопытные места мы попадали. Да и к острову вышли в интересном месте — у кратера вулкана, опустившегося в море, если судить по карте. На ней он изображен в виде подковы с высоченными стенками. На выходе из подковы — отдельная скала, которая — когда мы проплывали мимо — стала походить на сидящего льва с поднятой головой. По легкомыслию, в котором мы впоследствии убеждались не раз, команда не запаслась пресной водой. Поэтому, идя вдоль берега, мы всматривались, где бы ею можно было запастись. Показалась одинокая хижина. Сейнер бросил якорь, и мы на шлюпке с бочкой поплыли к ней. Нас почти как родных встретили четыре пограничника — пост. Они помогали набирать воду, принесли свежую форель и чувствовалось, что особенно приятно им было общество наших дам. Бедняги, вот где, наверное, их тоска поедала. Они провожали нас на лодке, махали руками, что-то кричали, когда сейнер уходил в море.
Итуруп отделен от следующего и последнего острова Курильской гряды — Кунашира — проливом Екатерины. На северной оконечности Кунашира огромный, почти двухкилометровый вулкан Цаца (или Чача-, или Тятя-) яма. Верхушка его срезана, и из нее торчит небольшой конус. Из той же карты следовало, что конус этот поднимается со дна кратера. И вулкан, и море являли собой зрелище величественное. Теперь мы шли вдоль восточных берегов Кунашира. То справа, то слева, как бы играя с сейнером вперегонки, кувыркалась небольшая стайка дельфинов. В воздухе летало много самых разнообразных птиц, в воде часто попадались шары медуз. Ломаная линия гористого берега выглядела на фоне вечернего неба, как гигантская пила. Уже совсем в темноте мы бросили якорь в бухте Южно-Курильска. Был абсолютный штиль. Пламя свечи на палубе, где мы расположились ужинать, горело как в комнате, без малейшего движения. Вдали мерцали огоньки, и доносилась музыка из репродуктора — «Баркарола» Чайковского, сбоку маячили огни соседнего судна.
Утром сошли на берег. Городок небольшой, широко раскинувшийся по дуге бухты, довольно грязный. На нас смотрели с любопытством, но и нас некоторые картинки удивляли. Вот одна из них: на палубе вытащенного на берег большого баркаса две молодые бабы искали друг у друга в волосах. Из Южно-Курильска мы направились на главный остров Малой Курильской гряды — Сикотан (Шикотан). Это гряда расположена юго-восточнее Большой Курильской гряды километрах в ста и простирается параллельно ей на длину острова Кунашира, то есть на сто, сто двадцать километров. Состоит она из нескольких мелких островов, из которых самый большой Сикотан длиной двадцать и шириной десять километров. Вышли мы днем с расчетом быть к вечеру на Сикотане. Стемнело, а острова все еще не было видно. Полная темнота, а острова нет. Остановились, бросили лот — канатик длиной в пятьсот метров — дна нет. Идем дальше, волна крупнее, видно, проскочили остров и выходим в океан. Заглушили мотор и легли спать. Сейнер качает в полной тиши. На рассвете поднялись на палубу — туман, ничего не видно. В тумане летают птицы. Двинулись вперед, потом повернули — толку никакого, туман стоит. Здесь капитан принял правильное решение: спросить у японцев, как найти берег. «Старикка», как называл старшего молодой Сато, вылез на нос судна, покрутил головой, обвязанной грязным платком, что-то понаблюдал (видно, птиц) и показал, куда плыть. Двинулись, туман сделался светлее, наверное, всходило солнце. Но вот, как занавес в театре, туман начал подниматься над водой. Стала просматриваться дальше поверхность моря, и тогда мы увидели вдали разбивающиеся о скалы пенящиеся волны. Мы шли прямо на них. Повернули вдоль берега. Туман не рассеивался. Но вот в береговой линии обозначился белесый провал — бухта. В нее и повернули. Здесь тихо, не качает. Бросили якорь. На берегу между туманом и водой видны строения. Тут я пошел спать.
А когда проснулся и вышел на палубу, то чуть не вскрикнул от удивления — так неожиданна была открывшаяся картина бухты. К ее берегам спускались мягкие, но довольно крутые склоны невысоких зеленых и очень живописных гор. Все было залито солнцем, а о тумане напоминали лишь его клочки, уходящие и тающие на глазах в расселинах и седловинах. Кругом летали с криками белые чайки. Мир предстал в совершенно ином виде.
Как выяснилось, наш горе-капитан, откладывая на карте с помощью транспортира курс, вместо ста градусов отметил восемьдесят — его знания геометрии не были глубокими, и мы проскочили мимо острова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Книги похожие на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Отзывы читателей о книге "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)", комментарии и мнения людей о произведении.