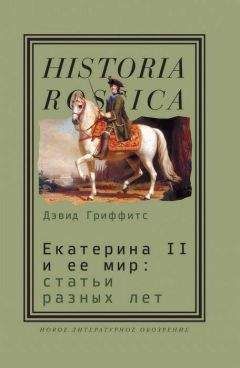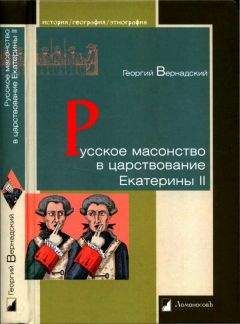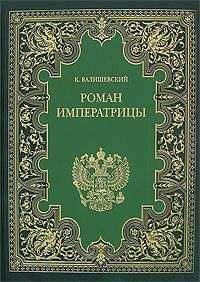Ольга Елисеева - Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины
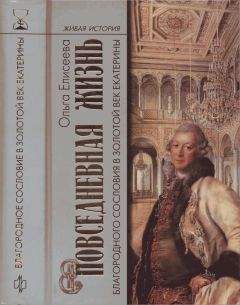
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины" читать бесплатно онлайн.
Новая книга известной писательницы и историка Ольги Елисеевой посвящена повседневной жизни русского дворянства золотого века Екатерины II.
Рассказывая о житье-бытье вельмож и старосветских помещиков, самой императрицы и заезжих путешественников, автор старалась показать не только их носовые платки, свечи и грязные колеса дорожных карет, но и то, как дышали, чувствовали, любили и ненавидели наши предки в то славное, уже далекое, но по-прежнему притягательное время.
Для решения подобной задачи нет способа лучше, чем дать возможность читателю самому прикоснуться к подлинным документам эпохи. Вот почему такое важное место в книге занимают тексты, созданные два столетия назад: воспоминания, корреспонденция, политические памфлеты, донесения и т. д.
В екатерининское царствование открытые столы держали: К. Г. Разумовский, И. И. Шувалов, братья Орловы, Н. И. Панин, Г. А. Потемкин, И. А. Остерман, А. А. Безбородко, Н. В. Репнин, Н. И. Салтыков, А. С. Строганов, Л. А. Нарышкин и многие другие вельможи. Кроме того, каждый из них оказывал гостеприимство небогатым землякам, приехавшим из губерний, где знатные господа родились или имели большие владения. Все поместное дворянство чаще всего находилось в родстве, свойстве или кумовстве. Считалось естественным «радеть родному человечку», помогать пристраивать сыновей в полк, а дочерей замуж. Покровительство воспринималось как священная обязанность. Узы патроната пронизывали все общество. В свою очередь, выдвинутые по службе земляки и родня составляли вокруг крупного вельможи когорту преданных и наиболее надежных приверженцев. Так, Потемкин посылал с почтой и секретными поручениями только курьеров из смоленских дворян, которым сам помог пробиться. Принцип родства и землячества играл важную роль при формировании придворных группировок.
Когда русские вельможи по служебным делам попадали за границу, обычай открытого стола для подчиненных и иностранных визитеров сохранялся. Подчас хозяин мог быть очень занят и прямо за трапезой разбирать бумаги. Но он, тем не менее, возглавлял стол и старался переговорить с теми, у кого имелось к нему дело. В 1770 году в Ливорно, где стояла русская эскадра под командованием А. Г. Орлова, Казанова побывал на обеде у своего прежнего знакомого. Итальянец желал получить какую-нибудь должность при штабе адмирала, но у графа не имелось вакансий. Можно было присоединиться к Алексею Григорьевичу в качестве гостя, но такое неопределенное положение не устроило Казанову:
«Он возвращается в два и садится за стол с теми, кто первым успел занять места. К счастью, я попал в их число. Приговаривая: „Кушайте, господа, кушайте“, Орлов беспрестанно читал письма и возвращал их секретарю, сделав пометки карандашом. После застолья, где я и рта не раскрыл, когда все поднялись пить кофе, он взглянул на меня, вскочил и с „а кстати“ взял меня под руку, отвел к окну и сказал, чтоб я поскорей отправлял свои пожитки, ибо, если ветер не переменится, он отчалит еще до утра»[310].
Большие начальники держали открытый стол для чиновников своих учреждений, а командиры гвардейских полков — для офицеров. Это серьезно экономило жалованье и воспитывало корпоративный дух. Чувство благодарности в таких случаях сглаживало служебные конфликты. Христианская этика заставляла богатых господ рассматривать свое имущество как данное Богом, а значит, и могущее в один прекрасный момент быть отнято. Вельможами владело не то чтобы ощущение вины за благополучие — такого чувства русский XVIII века не знал, но понимание необходимости жертвовать часть состояния окружающим. Это поддерживало их статус в собственных глазах. Полвека спустя знаменитый наместник Новороссии и Кавказа граф М. С. Воронцов напишет своему сыну: «Люди с властью и богатством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство». Вельможам XVIII столетия приглянулась чеканная формула Державина: «Сам живи и жить давай другим».
По отзывам иностранцев, гостеприимны были не только состоятельные господа, но и простолюдины. Считалось правильным принимать у себя путешественников, не требуя с них мзды. Крестьяне придорожных сел порой превращали обслуживание проезжающих в доходный промысел. Но люди с минимумом достатка уже смущались спросить с гостя денег. Точно так же, как небогатые дворяне приезжали к знатному покровителю и селились в его столичном доме, большой барин, путешествуя, запросто искал ночлег и стол под кровом любого благородного семейства. Виже-Лебрён писала: «Гостеприимный сей характер сохранился и во внутренних провинциях России… Когда русские вельможи отправляются в свои имения… по дороге они останавливаются в замках своих соотечественников, даже не будучи лично с ними знакомы. Там их вместе с прислугою и лошадьми принимают самым лучшим образом, даже если они задерживаются на месяц. Более того, я встречала одного путешественника, который со своими двумя приятелями пересек всю сию обширную страну. Все трое проехали через самые отдаленные провинции словно во времена патриархов или во дни „золотого века“. Везде их встречали с таким гостеприимством, что у них так и не возникло надобности открывать собственные кошельки. Им даже не удавалось соблазнить деньгами слуг и конюхов, смотревших за лошадьми. Хозяева этих домов были по большей части купцами или людьми, жившими от земли, и они удивлялись живости приносимых им благодарностей: „Если бы мы оказались в вашей стране, ведь и вы сделали бы то же самое для нас“. Увы!»[311]
Слова художницы кажутся преувеличением, но их подтверждала Марта Вильмот, совершившая с княгиней Дашковой поездку в Белоруссию: «На ночь остановились в помещичьем доме. Хозяин был в отъезде, но мы воспользовались русским гостеприимством, по закону которого любой знакомый может навестить дом. Слуги княгиню знали, и для нас были открыты все комнаты, приготовлен прекрасный ужин… На следующее утро, выпив кофе и чаю, мы продолжили наш путь»[312].
Щедрое гостеприимство отчасти скрашивало путешественникам мучительные трудности дороги. Дворяне редко останавливались на постоялых дворах. Мода на гостиницы прививалась в благородном сословии с трудом. Пристойнее считалось останавливаться у знакомых и родни. Лишь после пожара Москвы 1812 года, когда выгорело большинство дворянских гнезд Первопрестольной, волей-неволей пришлось смириться с услугами содержателей меблированных комнат. «Все пошло вверх дном, — вспоминала Е. П. Янькова, — домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнь скудна… Ну слыханное ли дело, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры в трактирах, или жили в меблированных помещениях, Бог знает с кем стена об стену? А экипажи какие? Что у купца, то и у князя… — ни герба, ни коронки… А в каретах на чем ездят? Просто на ямских лошадях… или того еще хуже, на извозчиках рыскают». Все эти «безобразные», по мнению мемуаристки, приметы послепожарного быта еще не были знакомы ни в XVIII, ни в самом начале XIX столетия.
Карусели
Речь пойдет вовсе не о ярмарочных аттракционах с крутящимися лошадками. Два с половиной века назад «каруселями» называли театрализованные состязания в верховой езде, стрельбе и метании копья, очень напоминавшие рыцарские турниры. Подобные развлечения появились во Франции еще в XVI столетии, но особого размаха достигли при дворе Людовика XIV. Екатерина II пожелала скопировать именно блистательные «ристания» «короля-солнце».
В 1766 году в Петербурге была проведена первая придворная карусель, задуманная еще за год до этого. Участники должны были разделиться на четыре группы или «кадрили» — Славянскую, Римскую, Турецкую и Индийскую. Для каждой специально шились костюмы, стилизованные под национальные. Во главе первой стояла сама императрица, второй — Григорий Орлов, третьей — его брат Алексей, четвертой — Петр Репнин. Проведение карусели обсуждали на «самом высоком уровне» — Н. И. Панин распорядился принести из эстампного кабинета царевича Павла книги с изображением каруселей, устраивавшихся во Франции. Князь П. И. Репнин, видевший подобные развлечения в Вене и Мадриде, разработал примерный план действа. Он назывался «Описание каруселя» и был подписан 25 мая 1765 года. Репнин стал директором намечавшегося празднества.
27 мая Екатерина II «повелеть соизволила быть публичному каруселю будущего июля в резиденции своей в Санкт-Петербурге, — гласило извещение для публики. — …Теперь стараются о приготовлении к сему великолепному празднику; а в каком порядке все сие происходить должно, о том в печатном плане каруселя обстоятельно объявлено». По приказу императрицы архитектор А. Ринальди должен был начать на Дворцовой площади возведение деревянного амфитеатра «на сто тысяч зрителей», окружавшего карусельную арену. Позднее силуэт этого сооружения был отчеканен на золотых памятных медалях в честь карусели, которыми награждались участники. Медали были трех размеров (для первого, второго и третьего мест), их чеканили на Монетном дворе. На одной стороне был выбит амфитеатр с парящим над ним орлом и расположенным внизу речным богом Невы. Сверху шла круговая надпись: «С Алфеевых на Невские брега». На другой стороне красовался профиль императрицы[313].
Все расходы оплачивало придворное ведомство. Кроме затрат на строительство они включали экипировку всадников, ценные призы и заключительный банкет.
Каждая кадриль представляла собой отряд, состоявший из всадников во главе с шефом, оруженосцев, музыкантов, дам и возничих колесниц. Они упражнялись в стрельбе из луков и пистолетов, метании копий и дротиков. Целями служили манекены, бутафорские головы, мячи и кольца. Пока шли приготовления «ристалища», начались тренировки. Наследник Павел Петрович вместе с матерью и воспитателями часто посещал место предстоящей карусели. «Там ездили дамы, а затем мужчины, — сообщал камер-фурьерский журнал 11 июля. — …Только платья ни у кого еще не было, потому что это только пробы». Лучше всех верхом скакали граф А. Г. Орлов и лейб-кирасирского полка подполковник князь И. А. Шаховской. Г. Г. Орлов пропустил несколько тренировок, поскольку ушиб себе ногу, «скакавши в маленьком саду через канапе».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины"
Книги похожие на "Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Елисеева - Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины", комментарии и мнения людей о произведении.