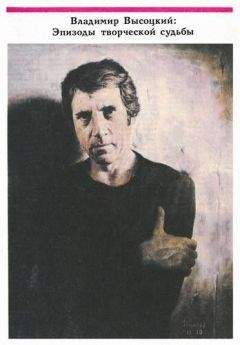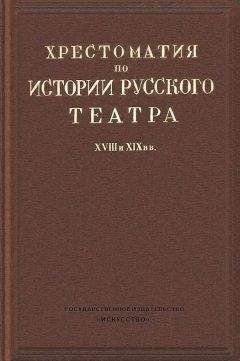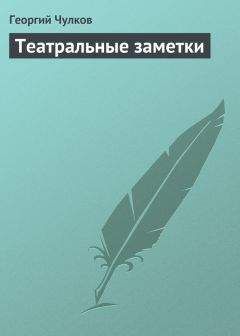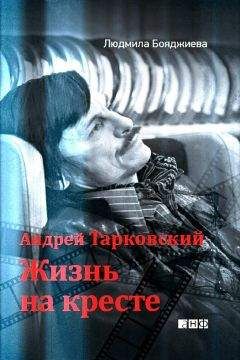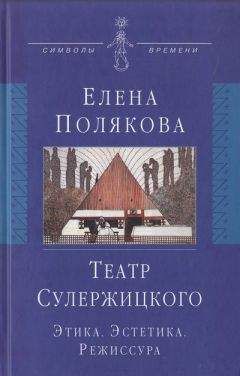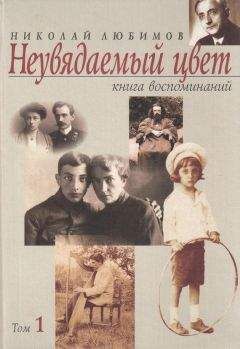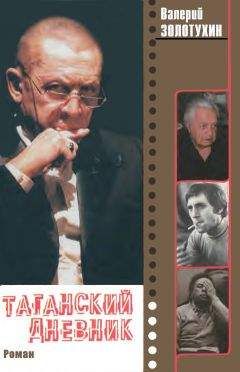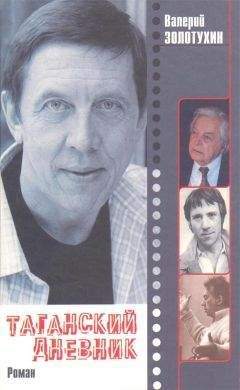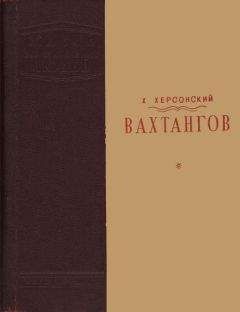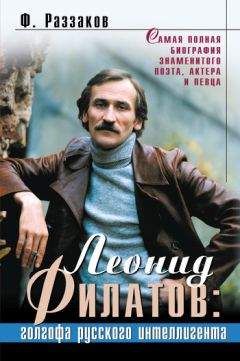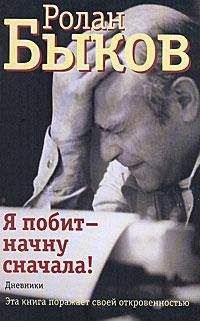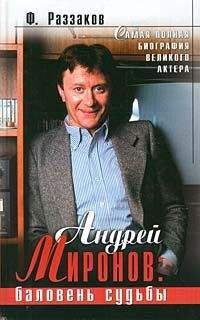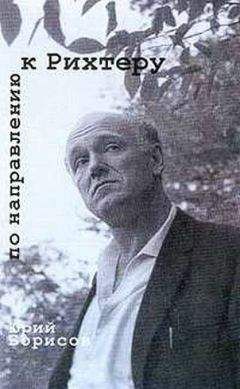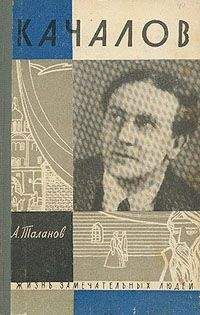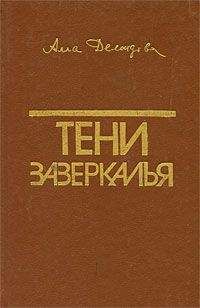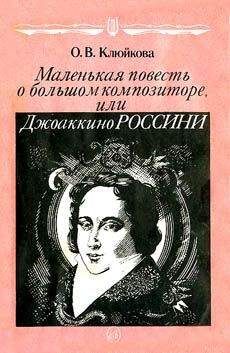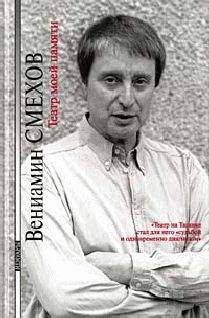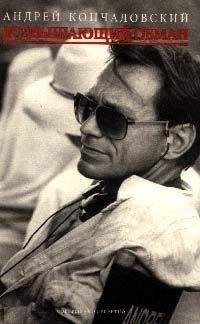Ольга Мальцева - Юрий Любимов. Режиссерский метод

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Юрий Любимов. Режиссерский метод"
Описание и краткое содержание "Юрий Любимов. Режиссерский метод" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена искусству выдающегося режиссера XX–XXI веков Юрия Любимова. Автор исследует природу художественного мира, созданного режиссером на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке с 1964 по 1998 г. Более 120 избранных фотографий режиссера и сцен из спектаклей представляют своего рода фотолетопись Театра на Таганке.
2-е издание.
Несостоявшийся в пьесе приход ряженых отозвался на сцене масками, которыми герои неоднократно закрывали свои лица. Так еще раз, помимо марша, вошел в спектакль мотив марионеточности, автоматизма, слепого подчинения силе. Этот мотив воплотился и в сквозной вариации. У Любимова все, включая штатских, были одеты в шинели, или в разные моменты времени накидывали их на себя. «В нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные» – реплика Маши (вместе с несколькими другими) выносилась в своеобразный эпиграф спектакля, но в контексте целого оборачивалась злой иронией. Все оказывались одинаковыми перед лицом насилия. (Любимовские эпиграфы можно воспринимать и как увертюры, излагающие основные мотивы, которые будут участвовать в драматическом действии постановки).
В спектакле возникало еще несколько рядов образов, повторявшихся на протяжении действия. Среди них – лившаяся по старому иконостасу вода, образ, становившийся символом утраты идеалов, но в контексте спектакля он обретал и множество других смыслов. Персонажи, завершая свои очередные речи, разведя руки, беспомощно пятились, пока не сталкивались со стеной иконостаса, и тогда раздавался скрежещущий грохот железа. Этот образ беспомощности также неоднократно повторялся по ходу действия (художник – Ю. Кононенко).
Повторяющаяся чеховская ремарка о стуке в пол была в пьесе сюжетно достаточно обоснована: Чебутыкин имел привычку перестукиваться с Прозоровыми. В звуковой партитуре спектакля все иначе – мотив не просто усилен, он приобрел другой смысл.
В «Борисе Годунове» на сцене постоянно находится хор-народ, становясь то действующим лицом, непосредственно участвующим в фабульных эпизодах, то зрителем происходящего. Так по ходу спектакля перед нами представал грандиозный образ мира-театра. А в его пределах развертывалось множество образных рядов, большинство из которых выходило за пределы фабулы и становилось автономным по отношению к ней.
В отличие от пьесы, которая ни разу не сводит Годунова и Самозванца вместе, в спектакле Годунов присутствует в келье Пимена при разговоре последнего с Григорием и в сцене у фонтана при свидании Марины с Самозванцем. А Самозванец, в свою очередь, «восседает» в царской Думе, где обсуждали план расправы с ним. Постепенно возникал образ не только зримого противостояния героев, но и вездесущести того и другого, так же, как образ народного всезнания воплощался благодаря постоянному присутствию на сцене народа.
В таком контексте заведомо драматичным становился мотив хора-народа. С готовностью, пусть лицемерной, народ снова и снова принимал на себя роль раба, немедленно подчиняясь воле непрерывно сменявших друг друга властолюбцев-дирижеров. Сами по себе эти «дирижеры» составляли еще один ряд образов. Годунов и Самозванец, их подданные, а также многочисленные участники заговоров, привлекая на свою сторону народ, все пользовались дирижерскими жестами, – в духе театра-жизни. «Штатный» же дирижер, во фраке и манишке, управлял хором в строгом соответствии с хорошо ведомой ему конъюнктурой – расстановкой сил, боровшихся за власть.
Покуплетно разбитые пронизывавшие весь спектакль песни иногда были обусловлены фабульным событием. Когда Годунов сзывал всех на пир после своего коронования, народ, пританцовывая, рьяно запевал «Пойду выйду на улицу…» Или, например, в корчме Варлаам, пускаясь в пьяный пляс, начинал «приличествующую» ситуации песню, тут же подхватываемую народом-хором: «Захотелось чернечищу погуляти…». То Годунов, то Самозванец в драматичной фабульной ситуации запевали песню «Растворите вы мне темную темницу», тут же подхватываемую хором-народом. Большинство же песен фабулой никак не были обусловлены. Они становились обобщенными музыкальными раздумьями о судьбе России, народа, о жизни. Но более существенную роль в драматическом действии песни играли в своей совокупности, опять же в пределах возникающего песенного ряда. Сама красота пения выявляла потенциал, который составлял разительный контраст остальным проявлениям народа.
Действуя в паре, в драматическом взаимодействии, участвовали в создании множества образов сценографические элементы жезл и доска, сакральная пара – вертикаль и горизонталь. С одной стороны, сила власти, которая без всякого лукавства обозначена варварским орудием подавления, с другой – столь же прямо обозначенная покорность. Но по мере развития действия такая прямолинейность исчезала. Горизонталь доски нередко перекликалась с горизонталью согнутых в поклоне спин, и обе противопоставлялись вертикали жезла. Несколько раз по ходу спектакля спины разгибались, и их обладатели оказывались способными – нет, не на сопротивление власти, а, например, на дикий разгул или расправу с себе подобными…
Доска была столом в корчме и опорой для жезла, регулярно втыкавшегося в нее. И орудием, которым пытали в стане Самозванца. Доской люди Самозванца придавливали детей Годунова.
Здесь, как и в «Трех сестрах», налицо и энергичные преобразования самого сюжета пьесы, и специфический взгляд режиссера на этот сюжет и его роль в композиции спектакля. Здесь самостоятельные, изобретенные театром эпизоды развиты, глубоко содержательны и выстроены в отдельные, автономные по отношению к фабуле ряды. Здесь, наконец, типичное для Любимова строение всей композиции, ее сценической жизни открыто, обнажено не как прием, а как один из главных законов этого театра.
Композиционные принципы
Переходы от персонажей к актерам и от актеров к персонажам
В начале спектакля «Добрый человек из Сезуана» на сцене появлялись двое ведущих (введенных режиссером), один с гитарой, другой с аккордеоном, и – шумной ватагой – все занятые в спектакле актеры. Они слушали вместе с нами записанные на фонограмму слова Брехта о театре улиц. Одновременно у правого портала высвечивался огромный портрет драматурга. В этом прологе перед нами были актеры Театра на Таганке.
В следующем эпизоде, непосредственно начинавшем сюжет о добром человеке, – действовали уже персонажи. Действие героев следовало за действием актеров. Фабульному образу предшествовало собственно режиссерское построение.
В конце спектакля на сцену снова выходила труппа Театра на Таганке, которая обращалась к публике с финальным брехтовским резюме. Здесь зеркально, только в обратном порядке, отражался пролог. За последним эпизодом пьесы следовал собственно режиссерский эпизод. Перед концом спектакля мы встречались с персонажами, в финале со зрителем прощались уже актеры.
Такие переходы от персонажей к актерам активизировали общение театра со зрителем не только в начале и в конце спектакля. Тут было правило, был закон этого представления. В известном смысле можно сказать, что количество героев спектакля по сравнению с пьесой как бы удваивалось. Сюжет спектакля включал в себя не только фабульные события, в которых действовали персонажи, но и «события», разворачивавшиеся между актерами и зрителями.
Музыкальный рефрен
Между брехтовскими эпизодами режиссер ввел несколько музыкальных номеров. Музыка во время перемены декораций при опущенном занавесе и погашенном свете – старый-престарый на театре прием. Но у Любимова он оказался своеобразным перевертышем. Нехитрые декорации (художник – Б. Бланк) действительно менялись где – то там, в темноте, а на авансцене парень в фуражке и пиджаке откровенно оповещал нас об этом, озорно выводя на черной доске, которую приносил с собой: «пе-ре-ста-нов-ка». И эта насмешка над таинством сцены, и музыкальный рефрен, который проносили через спектакль ведущие (авторы музыки – актеры театра А. Васильев и Б. Хмельницкий), не были осовремененными антрактами. Мы были каждый раз другими – только что воспринявшими очередные эпизоды – и потому иначе относились к одному и тому же, казалось бы, музыкальному куску. Кроме того, зрительское восприятие этого рефрена было в достаточной мере обусловлено и бессловесным общением с залом актеров-музыкантов, вроде бы бесстрастно игравших на своих инструментах, но одновременно так серьезно и внимательно смотревших нам в глаза, как будто они желали понять наше отношение к происходившему, а может быть, и нас самих.
Соединение в композиции спектакля драмы, лирики и эпоса
«Припев» становился своеобразным лирическим отступлением, ибо в музыкальных эпизодах театр переживал только что сыгранное им, эмоционально подводя итог. Но здесь была не чистая лирика: на наших глазах будто менялся тип действия. Ведь «люди от театра» общались с нами, режиссер на деле выстраивал целый сюжет между своими артистами и зрителями. Не случайно переходы от драмы к своеобразной театральной лирике – в данном спектакле и в других – наблюдаются на Таганке почти всегда при смене фабульных эпизодов внефабульными. Это относится и к пространным актерским обращениям в зал, и к мгновенным, «мерцающим» переходам персонаж-актер и обратно. Такие выходы из роли всегда наполнены личным, глубоко заинтересованным отношением актеров к происходящему на сцене, их собственным переживанием ситуации. И это, несомненно, закладывалось режиссером в партитуру еще на стадии создания спектакля. Не зря с самого начала Любимов стремился работать с актерами, воспитанными у него в театре [52]. Сегодня уже можно говорить о том, что такую труппу – высококлассных мастеров – режиссер воспитал.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Юрий Любимов. Режиссерский метод"
Книги похожие на "Юрий Любимов. Режиссерский метод" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Мальцева - Юрий Любимов. Режиссерский метод"
Отзывы читателей о книге "Юрий Любимов. Режиссерский метод", комментарии и мнения людей о произведении.