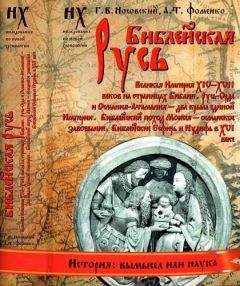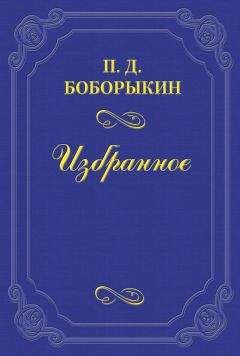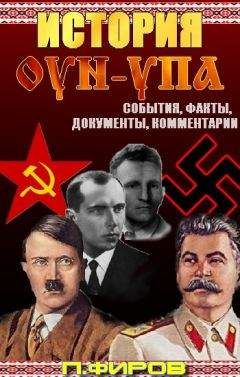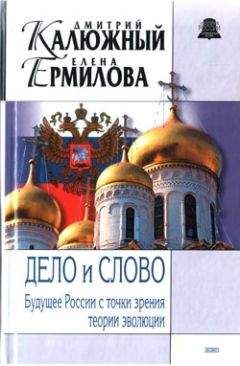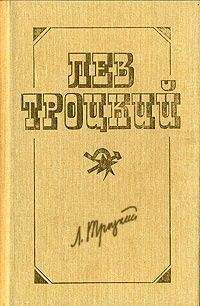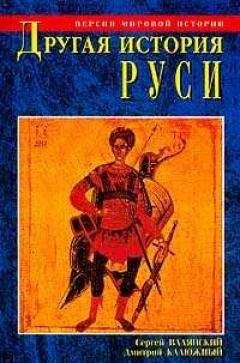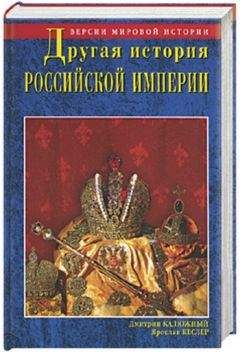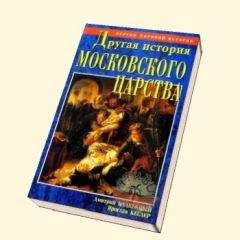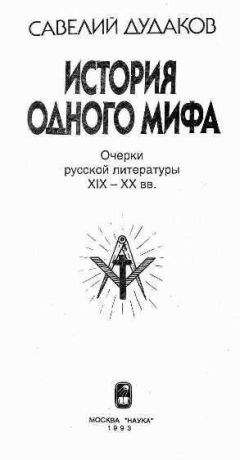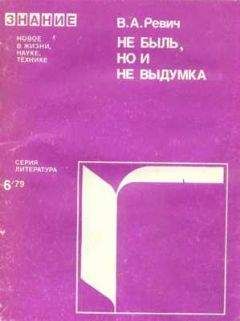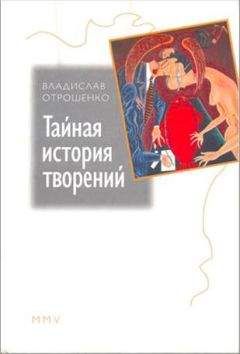Юлий Айхенвальд - Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»
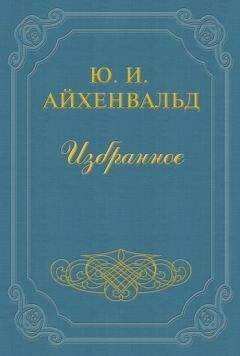
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»"
Описание и краткое содержание "Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»" читать бесплатно онлайн.
«История художественной литературы не имеет своего философа, который подчинил бы эволюцию ее содержания каким-либо определенным законам и уловил внутренний смысл ее развития. В прихотливой смене идей, сюжетов и настроений, отличающей индивидуальное словесное творчество, не подмечены сколько-нибудь точно и доказательно господствующие и необходимые линии, и до сих пор только призрачными, а не реальными нитями связаны литературные факты с общественной средой, с особенностями исторического момента, со всею совокупностью культуры вообще…»
И оттого кто не критик, т. е. кто не умеет читать, не должен бы заниматься историей литературы. Если глубокое наслоение душевной прозаичности безнадежно заглушило в человеке те поэтические ростки, которые, повторяем, есть у всякого; если он стал внутренне к искусству непричастен, то пусть он лучше остается вдалеке от этой заказанной для него, ему не обетованной земли. Иначе он будет чеховским профессором Серебряковым, который десятки лет читает лекции об искусстве, совершенно его не чувствуя и не понимая. Профессор Серебряков из истории литературы вынет ее душу, самую литературу, и она останется такою же бездушной, как он сам. Профессор Серебряков, не умея читать, будет убежден, что мы, например, прочли Пушкина и Гоголя, так как читали их на школьной скамье. Он не задумается над простою мыслью, что писателя никогда нельзя прочитать до конца, так как писатель конца не имеет. А ведь это несомненно. Истинный поэт неисчерпаем, и потому он всегда для нас – новый. Уж не говоря о печальных особенностях нашей забывчивой памяти, мы оттого должны перечитывать его всю жизнь, и оттого будет он неустанно раскрывать перед нами все другие и другие, часто неожиданные горизонты, что ведь изменяется и растет наша читательская душа. В своей эволюции осуществляет она и эволюцию художника, обнаруживает его бездонность. Вообще, нередко забывают, что писатель – это не определенный, эмпирический человек и не словесный текст, что Пушкин – это не Александр Сергеевич и не ряд белых страниц с черными строками: писатель – дух, его бытие идеально и неосязаемо; писатель – явление спиритуалистического порядка, целый мир своих и наших ощущений, мыслей, образов, картин и звуков; писатель – вечная динамика, начало движущееся и движущее, – кто же решится сказать, что он это движение, это солнце, остановил и все это психическое богатство прочитал, окончил и до конца истратил?
Но если роль критика-читателя состоит по преимуществу в том, чтобы воспринять и воспроизвести чужое творение собственной душой, то не следует ли отсюда, что его критическая работа будет иметь характер субъективный? Не наложит ли он отпечатка своей личности на то произведение, которое он читает и растолковывает? Бесспорно – да. Но в этой субъективности – не только право его, но и обязанность; эта субъективность – неустранимый факт, которого нельзя и не надо отвергать. Каждый имеет право на самого себя. С другой стороны, читатель эстетически обязан отдаться своею субъективностью писателю. Последний только этого и ждет; не ученый, не историк литературы, не критик даже, – писателю нужен читатель. Глубокий и трогательный смысл имеет следующее стихотворение Баратынского:
Мой дар убог, и голос мой не громок;
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Эти слова (кроме первого стиха) могли бы служить эпиграфом ко всей литературе. Поэт стучится в наше сердце, взывает именно к нашей личности. Художник рассчитывает на свое восполнение в том, кто его воспринимает. Литературное произведение всегда – диалог: писателя и читателя. Последний сотрудничает первому. Творение художника – это как бы вопрос, который он бросает миру, и мир отвечает на него своими впечатлениями, дает отзвуки на звук. И понятно, что эти отзвуки, глядя по субъективности откликающихся, могут быть богаты или бедны, громки или тусклы, значительны или пусты. Писатель и читатель – понятия соотносительные. Один без другого действовать не может, и один другого определяет. Писателя создает читатель. Критик осуществляет потенцию автора. Собственно писателя, как величины определенной, объективной, данной однажды навсегда, не существует. Он не ведет самостоятельной жизни, не бывает никогда один: он живет с нами и в нас. Нет писателя без читателя. И недаром боялся Чехов читателя бездарного: да, не бездарным должен быть не только писатель, но и читатель.
В силу этой соотносительности писатель необходимо изменчив. Пушкин для гоголевского Петрушки совсем не то, что для Гоголя: вот уже – два Пушкина, и эта естественная скала может идти еще ниже и еще выше, – и вверх даже вовсе нет ей предела. Мы раньше напомнили, что писатель меняется и в границах одной и той же читательской восприимчивости; с нами растет, и углубляется, и богатеет оттенками и наш автор – мы вообще образуем с ним один духовный организм. «Все течет», и в этом гераклитовом потоке между прочими элементами вечному подлежит превращению и двуединость писателя и читателя. Когда Оскар Уайльд утверждает, что зритель, слушатель, читатель – это скрипка, струнами которой нераздельно владеет художник, то можно и должно его сравнение (помня приблизительность всякого сравнения) видоизменить: в своей одаренной руке художник держит смычок, а та скрипка, на которой он играет, – это мы сами, это наша восприимчивость. Не будь ее, не было бы ничего, – не оказалось бы художественного произведения. Эффекты искусства рождаются непременно от контакта двух душ – творца и того, к кому он обращается. Вот почему от субъективности здесь нельзя отрешиться: она в искусстве и неизбежна, и желанна. Весь вопрос только в том, какова субъективность, кто воспринимает, в чью душу проникает художество; весь вопрос в том, являемся ли мы достойной скрипкой для великого смычка.
В связи с этим соотносительность писателя и читателя не только является объективной необходимостью, не только отвечает самой сути искусства, но и не содержит в себе для писателя ничего опасного. Не надо лишь ее сознательно нарушать, не надо, чтобы читатель намеренно становился впереди писателя, заслонял его собою; и не надо навязывать автору того, чего в действительности мы от непосредственного общения с ним вовсе не испытали. Мы не должны в угоду своего истолкования нарочно затемнять или оставлять в небрежении те духовные черты писателя, которые не укладываются в нашу концепцию его. Импрессионизм должен быть искренен и добросовестен – иначе он теряет весь свой смысл. Не только писать, но и читать надо честно.
Так как писателя нет, покуда к нему не подошел, его не выявил в себе читатель-критик, то естественно, что последний может собою усилить и углубить его; и благодаря внутреннему сочетанию двух субъективностей возникает явление более сложное и тонкое, чем тот же писатель, но только отразившийся в более заурядной и менее чуткой читательской индивидуальности. Именно поэтому Оскар Уайльд и придает необычайно большое значение той личности, которая воспринимает чужое творчество, которая читает, и даже критика он ставит выше писателя. Уайльд, безусловно, не прав: никогда вторичное не выше по своей природе первичного, и, хотя бы иной раз отзвук казался богаче звука, все-таки именно в последнем таятся все возможности первого. И, строго говоря, критик-специалист даже совсем не нужен. Принципиально рассуждая, можно обойтись и без посредника. Книга литературы не есть книга за семью печатями. В возможности она лежит раскрытой перед каждым. «Приди и возьми», – говорит писатель читателю. Оскар Уайльд слишком переоценивает роль критика. Верно лишь то, что критик – продолжатель поэта и что ему тоже присуще своеобразное творчество. Верно также и то, что критику в известном смысле больше дела, чем писателю. Действительно: автор, дав своему замыслу конкретное воплощение, этим уже свою роль сыграл – он кончил; произведение же его, объект вечного созерцания, живет беспрерывно обновляющейся жизнью, т. е. в своей бесконечной динамичности развивается, меняется, растет и, преломляясь через новые и новые восприятия, без числа и меры рождает все новые и новые впечатления, – другими словами, оно никогда для критика не исчерпывается и никогда не позволяет ему остановиться и завершить. Ток впечатления беспределен. Зона соотносительности писателя и читателя безгранична. Действие, даже высокое, однократно; свершение – это предел, и Рафаэль, закончив Мадонну, кладет свои кисти; между тем созерцание, функция критика, бессмертно, и нет ему причины прекратиться. Можно написать книгу, но нельзя ее прочесть: она нескончаема и вечному подлежит восприятию.
Правда, и писатель, в сущности, тоже никогда не заканчивает своих произведений (вообще, творчество и конец – понятия несовместимые). «Взыскательный художник», всегда недовольный собою, всегда мучительно сознающий несовершенство своих начертаний (никто не чувствует себя таким малым, как великий), он, воплотив, еще не освобождает себя этим от своих замыслов. Он знает, что мысль изреченная есть ложь, и вечны его попытки эту ложь преодолеть. Но и по другой, более общей причине, именно – в силу той же безначальной и бесконечной природы творчества, он в духе своем продолжает свое создание, на чужой взгляд будто бы готовое. В действительности же, если вообще на свете нет ничего готового, как и самый свет, то особенно это надо сказать о художестве. Пусть налицо перед нами в красках, и линиях, и звуках выраженное творение – оно не все, не целиком перед нами: корнями своими оно живет еще в душе своего творца. Мы имеем только внешние, надземные элементы литературного произведения: оно в своих строках не закончено, потому что не в них оно начато, не в них зачато. Конец без начала не есть законченность.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»"
Книги похожие на "Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юлий Айхенвальд - Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»"
Отзывы читателей о книге "Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей»", комментарии и мнения людей о произведении.