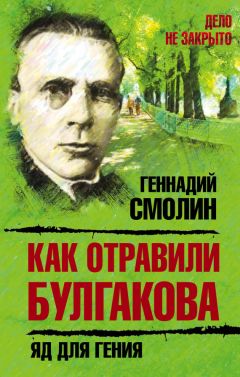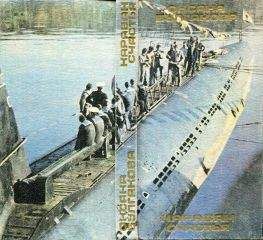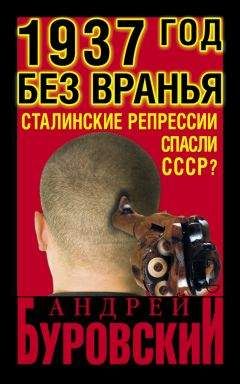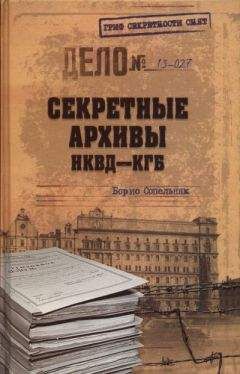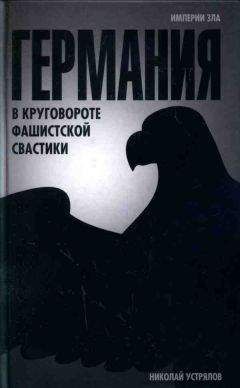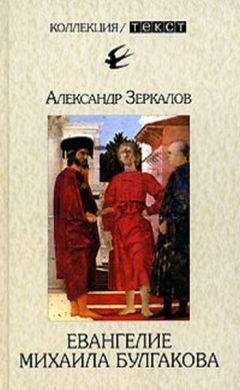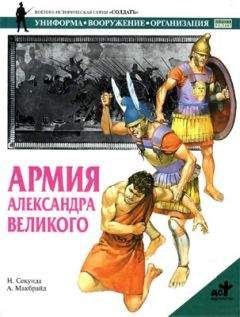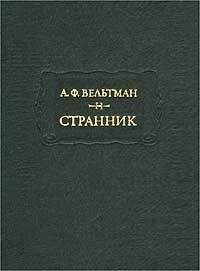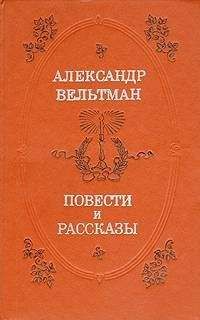Александр Мирер - Этика Михаила Булгакова
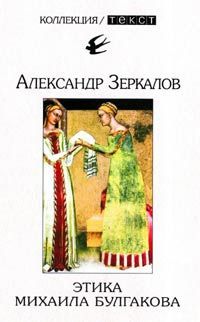
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Этика Михаила Булгакова"
Описание и краткое содержание "Этика Михаила Булгакова" читать бесплатно онлайн.
Книга Александра Зеркалова посвящена этическим установкам в творчестве Булгакова, которые рассматриваются в свете литературных, политических и бытовых реалий 1937 года, когда шла работа над последней редакцией «Мастера и Маргариты».
«После гекатомб 1937 года все советские писатели, в сущности, писали один общий роман: в этическом плане их произведения неразличимо походили друг на друга. Роман Булгакова — удивительное исключение», — пишет Зеркалов.
По Зеркалову, булгаковский «роман о дьяволе» — это своеобразная шарада, отгадки к которой находятся как в социальном контексте 30-х годов прошлого века, так и в литературных источниках знаменитого произведения. Поэтому значительное внимание уделено сравнительному анализу «Мастера и Маргариты» и его источников — прежде всего, «Фауста» Гете.
Книга Александра Зеркалова строго научна. Обширная эрудиция позволяет автору свободно ориентироваться в исторических и теологических трудах, изданных в разных странах. В то же время книга написана доступным языком и рассчитана на широкий круг читателей.
Дело Бегемота — поджоги. Для них он и снабжен примусом; а «нехорошую квартиру» он поджигает один[74]. Кошка — символ домашнего уюта, «древнее и неприкосновенное животное», как сказал сам Бегемот. И примус ему дан неспроста — ревущий аппарат был символом домашней жизни после революции даже в Москве, где газовые плиты почему-то бездействовали. Так вот, если один символ дома поджигает квартиру при помощи другого символа, это уже страшно, это — символ ненависти к такому дому…
Итак, о самостоятельных деяниях Бегемота.
Он является к какому-то «председателю Зрелищной комиссии» (при любви молодого государства к учреждению всяких комиссий такая могла быть вполне). Является с обычной хулиганской дерзостью, напрашиваясь на скандал. Чиновник орет на него: «Я занят!» — но Бегемот еще добавляет дерзости, и тот реагирует естественным образом: «Вывести его вон, черти б меня взяли!» — на что Бегемот ласково ответствует: «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» (606), и за письменным столом Прохора Петровича оказывается «пустой костюм»; ни головы, ни рук из этого костюма не торчит. Костюм не ощущает никаких неудобств — как всегда, кричит на каждого входящего, более того: «И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит! Костюм!» (607).
Тут, разумеется, всплывают сразу две сильные ассоциации: со щедринским безголовым градоначальником и со страхом перед словом «черт», характерным для гоголевских персонажей. Вспоминается укоризненная речь Ивана Ивановича: «Вот, таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да будет уже поздно…» Примерно то же говорит «красавица-секретарь» своему принципалу: «Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался!»
Первая ассоциация весьма многозначительна: объектом щедринской сатиры были не мелкие чиновники, а верхушка Российской империи. Вторая, гоголевская ассоциация несет маскировочную нагрузку: получается безобидная насмешка над суеверием, которое выглядело комически еще сто лет назад. Но одновременно в этом содержится указание на источник, прямо комментирующий тему; на произведение, в котором чертыханье служит стержнем всего действия.
Обратимся к этому источнику, оставив на время в стороне Бегемота с его трюками, ибо тема черта, уносящего голову, пронизывает весь роман, начинаясь сейчас же за эпиграфом, в названии первой главы: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Это перифраз названия рассказа Эдгара По: «Never Bet the Devil Your Head»[75]. В современном квалифицированном переводе название звучит: «Не закладывайте черту своей головы», но во всех дореволюционных изданиях слово «never» переводилось. Например, в сытинском издании: «Никогда не закладывайте дьяволу своей головы»[76].
В рассказе Э. По некий господин любит чертыхаться настолько, что его зовут Накойчертом, причем персонаж-рассказчик постоянно пытается его обуздать. По ходу действия Накойчерт и рассказчик забредают на крытый мост. «Внутри было жутковато и темно… Я почувствовал, как у меня сжалось сердце» (с. 337). Это первая прямая параллель, мы помним обстановку на Патриарших: не было никого, «пуста была аллея». Следующая: «Путь нам преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки» — то же самое на Патриарших, дорогу Берлиозу преграждает турникет (это реалия; у входов на московские бульвары стояли стальные вертушки).
Мистер Накойчерт почему-то не желает пройти через вертушку, как все люди, а хочет перепрыгнуть через нее. «Пусть черт возьмет его голову!» — восклицает он, рассказчик открывает было рот, чтобы пожурить его за упоминание черта, как вдруг появляется хромой господин. Накойчерт мгновенно понимает, кто это; однако он упрям и отступать не хочет. То есть экзекуция совершается по требованию и в присутствии дьявола, но в то же время из-за глупого упрямства человека. Накойчерт решает прыгать, и тогда черт «…схватил его за руку и сердечно потряс ее, — глядя все это время ему прямо в лицо с выражением самой искренней и нелицеприятной благосклонности» (с. 339). Сравните с текстом «Мастера»: «Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова: — Позвольте вас поблагодарить от всей души!» (429).
Я уже высказывал предположение, что Воланд благодарит не ради юродства, а серьезно: мол, спасибо, теперь ты в моей власти. Вспомним, что сказал перед тем политичный редактор: «…Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге» (428). Мы это квалифицировали как ложь, ибо какая там сознательность — под давлением гигантской пропагандистской машины, при повсеместно закрытых церквах!
Продолжим движение по рассказу По. Перед прыжком легкомысленного Накойчерта дьявол «минутку помолчал, словно в глубоком раздумье, а затем взглянул вверх и, как мне показалось, легонько усмехнулся» (с. 339, 340).
Эту мизансцену Булгаков переигрывает в начале беседы на Патриарших: «Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце… чему-то снисходительно усмехнулся…»
Наконец, мистер Накойчерт прыгает — позволю себе каламбур, очертя голову, и падает, так и не достигнув цели, не выйдя с моста: «Не успел я и глазом моргнуть, как мистер Накойчерт упал навзничь» (с. 340). Сравним: «Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь…» (463), — не добежав до телефонной будки. Но основное совпадение далее: «…Пожилой господин… бежит, прихрамывая, прочь, поймав и завернув в свой фартук что-то, тяжело упавшее сверху…» В «Мастере» голова также падает: «…Выбросило на булыжный откос круглый темный предмет», а затем на другом конце романа, в главе 19-й, оказывается, что и ее утащил черт: «Голову у покойника стащили из гроба», — говорит Азазелло. Отвечая на вопрос Маргариты о покраже, он прямо называет виноватого: «Черт его знает как! …я, впрочем, полагаю, что об этом Бегемота не худо бы спросить. До ужаса ловко сперли» (539, 640). Обыгрывается и чертыханье: Азазелло появляется, стоит лишь Маргарите подумать о Мастере: «Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!» (И сейчас же следующая фраза — встык: «Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?» — о безголовом трупе Берлиоза…)
Булгаков следует за Э. По буквально до конца заимствованного сюжета. У По рассказчик говорит: «…Он попросту лишился своей головы, и как я ни искал, мне так и не удалось ее найти» (с. 340) — у Булгакова поэтому и «удивленные лица» — как ни искали голову, так и не нашли. У По мистер Накойчерт умирает какое-то время спустя после казни, о чем сообщается в лучших традициях черного юмора так: «Он ненадолго пережил эту ужасную потерю. …Вскоре ему стало хуже, и, наконец, он скончался (да послужит его кончина уроком любителям бурных развлечений)» (с. 340)[77].
И снова мы видим аналогию в «Мастере»: Берлиоз умирает по-настоящему спустя два дня после смерти; «он ненадолго пережил эту ужасную потерю»…
Итак, отметив, что Бегемот похитил обе головы — и вспыльчивого чиновника, и разговорчивого редактора, — остановимся на литературной стороне дела, на разлитом использовании рассказа Эдгара По в «Мастере». Факт отнюдь не удивителен: скорее стоило бы удивляться, если бы Булгаков при создании своей литературной энциклопедии оставил великого американца в стороне. Фантазия в сочетании с черным юмором, иногда — с мистическим мышлением, но чаще с трезвым взглядом ученого, детективной фабулой и точным реалистическим описанием — вот что делает По в некотором роде учителем Булгакова.
Роман, разумеется, не рассказ; он не делается в едином ритме и поэтике, линии разводятся по сюжетным каналам. Разведен и рассказ об отрубленной голове; смеховая линия воплотилась в гротесковой истории безголового костюма, а трагедия, всегда — незримо — присутствующая в черном смехе, выходит наружу, когда голова катится под откос и дворники начинают засыпать лужи крови. Трагедия достигает кульминации, когда голова, лежащая на подносе перед Воландом, превращается в кубок, «желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп» (689). Специальный кубок для причастия дьявола — кровью Иуды, претворенной в вино.
Вот зачем понадобилась глупая голова мистера Накойчерта…
Позволю себе отступление — о самом Булгакове, о его нраве (в хорошем смысле этого слова). Всеми силами я стараюсь писать о нем безлично; читать роман, не думая об авторе, о бедном окровавленном мастере; но накапливаются мысли, накапливается интуитивное ощущение Булгакова как живого человека, и вдруг становится необходимо рассказать о своем ощущении своему читателю. Мне кажется, будучи сам мистификатором, он не выносил неразрешенных загадок в окружающем его интеллектуальном мире. Это видно по строению «Мастера»: автор пытается разгадать бога, построить непротиворечивую систему отношений доброго божества с миром, сочащимся злом. Но совершенно то же самое заметно и в мелочах! Все читатели, наверно, отметили пристрастие Булгакова к обороту: «Пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», с небольшими вариациями (554, 558, 746, 799, 811). Фраза эта известна Мастеру еще до окончания «романа» как завершающая, и действительно ею кончается последняя «ершалаимская глава»; она же замыкает большой роман, и еще дополнительно эпилог.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Этика Михаила Булгакова"
Книги похожие на "Этика Михаила Булгакова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Мирер - Этика Михаила Булгакова"
Отзывы читателей о книге "Этика Михаила Булгакова", комментарии и мнения людей о произведении.