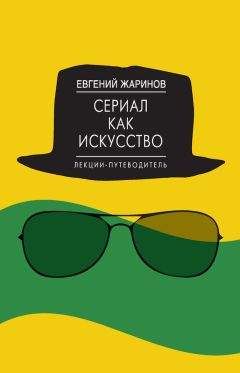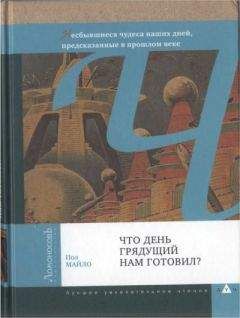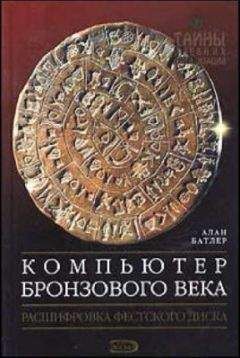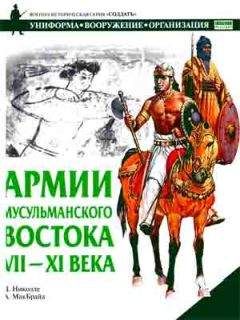Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "От Кибирова до Пушкина"
Описание и краткое содержание "От Кибирова до Пушкина" читать бесплатно онлайн.
В сборник вошли работы, написанные друзьями и коллегами к 60-летию видного исследователя поэзии отечественного модернизма Николая Алексеевича Богомолова, профессора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В совокупности большинство из них представляют коллективный набросок к истории русской литературы Серебряного века. В некоторых анализируются литературные произведения и культурные ситуации более раннего (первая половина — середина XIX века) и более позднего (середина — вторая половина XX века) времени.
О том, насколько серьезной в 1955–1956 годах выглядела кандидатура Шолохова на Западе и насколько широким было сочувствие к ней, можно судить хотя бы по статье о нем Николая Оцупа, заказанной у автора редакцией «Граней» — журнала, являвшегося рупором наиболее активных врагов советского режима. Статья Оцупа, написанная вскоре после XX съезда КПСС, хотя и содержит множество оговорок, в целом поражает открыто благожелательной оценкой Шолохова и как писателя, и как гражданина. Приветствуя выступление Шолохова на недавнем партийном съезде, Оцуп пожурил его, однако, за то, что тот смолчал там «о главном»: «О том, что и его партия, как бы она ему ни была дорога, не может быть музой поэта: власть предержащая для этой роли не годится. Поэзия и свобода — синонимы»[1349]. При этом Н. Оцуп высоко оценил в статье не только «Тихий Дон», обративший на писателя «внимание всего культурного мира», но даже и «Поднятую целину», хоть и отметил, что в ней отсутствует «трагическая глубина» первого шолоховского романа. С неподдельным восторгом отозвался критик-эмигрант об одном из последних произведений советского писателя — о «Науке ненависти» («сколько в этом коротком очерке величия и простоты»). Завершал он свою статью обращенным к Шолохову призывом отказаться от ненависти к русскому зарубежью, сославшись на участие эмигрантов в движении антифашистского сопротивления на Западе в годы войны[1350]. Все официальные обязанности и почести, которыми был облечен Шолохов (член в партии с 1932 года, лауреат Сталинской премии, член Академии наук, депутат Верховного Совета, делегат партийных съездов, приглашаемый выступать на них с речью), не казались этому критику (как и другим западным наблюдателям) заведомо дискредитирующими чертами. Он в какой-то степени казался параллелью Шостаковичу, в котором, несмотря на послушные исполнения композитором поручений правительства на международной политической арене, всегда видели большого и честного художника и в значительной степени жертву преследований властей[1351].
Можно полагать, что одновременно с возвращением Шолохова в «орбиту» нобелевских номинантов у членов Шведской академии могли родиться надежды на то, что в список номинантов будет возвращен и Пастернак и восстановится, таким образом, ситуация альтернативности, соперничества разных советских писателей, складывавшаяся к концу 1940-х годов благодаря инициативе западных номинаторов. В апреле 1954 года в журнале «Знамя» появились его стихи из нового романа, и казалось, что периоду опалы приходит конец. В кругах, связанных с Академией, очевидно, допускали, что если советское руководство сумело преодолеть прежнее презрение к Нобелевским премиям и если впервые номинация на литературную премию пришла непосредственно из Москвы, то официальная «реабилитация» или «легализация» будет распространена и на второго послевоенного кандидата из Советской России — вышедшего из опалы поэта Бориса Пастернака. С этими ожиданиями, очевидно, и был связан пронесшийся в конце 1954 года слух о том, что поэт является нобелевским кандидатом. Слух, якобы имевший источником какую-то программу Би-би-си, дошел до Переделкина и преломился в переписке Ольги Фрейденберг с Пастернаком.
Между тем в Нобелевском комитете зрело критическое отношение к решениям, вынесенным в последнее время. Новый член его Даг Хаммаршельд, блестящий молодой дипломат, в 1953 году назначенный Генеральным секретарем ООН, утонченный поэт и интеллектуал, в 1954-м заместивший в Комитете своего умершего отца, выражал резкое недовольство избранниками последних трех лет — Черчиллем, Хемингуэем и Лакснессом, — видя в их выборе воздействие политических расчетов, нанесших ущерб престижу литературной награды. Впервые став участником процесса обсуждения в 1955 году и с беспрецедентной энергией продвигая своего собственного кандидата — французского поэта (и кадрового дипломата) Сен-Жон Перса (Алексиса Леже), в котором он видел наследника Бодлера и Малларме и стихи которого сам переводил[1352], — Хаммаршельд писал Стену Селандеру 12 мая 1955-го: «Я голосовал бы против Шолохова по убеждению, основанному не только на художественных причинах и не только по естественному желанию дать отпор попыткам оказать на нас давление, но также и по тому соображению, что премия советскому автору сегодня, неизбежно подразумевая некоторую явно политическую мотивировку, кажется мне идеей нежелательной»[1353]. Сталкивавшийся с топорными методами советских дипломатов по своей службе в Нью-Йорке, Хаммаршельд распознавал в присланной из Москвы номинации правительственную руку и противился самой мысли о возможности допущения советской кандидатуры в элитарный круг лауреатов в момент, когда «дух Женевы» позволял советской пропаганде развернуть «мирное наступление» на международной арене.
Такое априорное исключение русской, советской литературы, подрывающее международный характер премии, не могло приветствоваться другими членами Нобелевского комитета в период «смягчения международной обстановки». Помимо того аргумента, что русская культура оказывалась «за бортом» на протяжении более двух десятилетий (после награды Бунину), сами по себе мощные процессы, начавшиеся в Советском Союзе и в странах-«сателлитах» в первые же недели после XX съезда КПСС, содержание секретного доклада Хрущева, роль интеллигенции за «железным занавесом» приковывали к себе внимание и заставляли гадать, к каким последствиям для всего мира это может привести. И хотя брожение в среде художественной интеллигенции Польши и Венгрии в середине 1956 года протекало несравненно более бурно, чем в СССР, не приходилось сомневаться, что поднятые вопросы, посягавшие на «святая святых» сталинской идеологической системы (в частности, на доктрину «социалистического реализма»), станут мощным катализатором культурных и общественных перемен в лагере социализма в целом.
Этим надеждам и ожиданиям был нанесен сокрушительный удар, когда в начале ноября 1956 года советские войска подавили венгерское восстание, свергнув правительство Имре Надя. Эти события потрясли современников, вызвав бурный всплеск возмущения в кругах западной интеллигенции, питавших дружеские чувства в отношении Советского Союза и с радостными надеждами встречавших симптомы десталинизации в странах социалистического лагеря. Подавление венгерской революции привело к расколу в среде левой интеллигенции во Франции[1354]. 9 ноября в парижской газете «France Observateur», в которой сотрудничала левая, близкая к социалистической партии интеллигенция, появилось заявление «Против советского вмешательства». Среди подписавших его были Жан Поль Сартр, Веркор, Клод Руа, Роже Вайян, Симона де Бовуар, Мишель Лейрис, Жак Превер, Клод Морган и другие видные писатели, которых раньше третировали в советской печати, а сейчас, в атмосфере «Женевы», стали приглашать на ее страницы и издавать[1355]. 22 ноября в «Литературной газете» помещен был пространный ответ советских писателей, написанный в полном соответствии с аргументацией и стилистическими нормами пропаганды той поры. Среди фамилий подписавших его на первом месте красовалось имя Шолохова[1356].
Подавление народного выступления в Венгрии знаменовало, в глазах тогдашних наблюдателей на Западе, бесповоротный конец «оттепели» в СССР и победу сталинистских тенденций в советских верхах. Это впечатление подтверждалось мерами, предпринятыми поздней осенью 1956-го и на протяжении 1957 года (осуждение романа Дудинцева и его публикации, атаки на «ревизионистов» в Польше, запрет третьего номера альманаха «Литературная Москва», принуждение его редакторов к публичному покаянию) и, в особенности, выступлениями Н. С. Хрущева перед писательской интеллигенцией, расцененными на Западе как «смягченный» рецидив «ждановщины» — бесцеремонного вторжения вождей государства в творческую жизнь[1357].
На этом именно фоне и следует рассматривать новое выдвижение Бориса Пастернака на Нобелевскую премию. Произошло оно, как известно, в виде предложения, внесенного шведским поэтом, членом Академии Гарри Мартинсоном, причем в устной форме, 31 января 1957 года — в самый последний момент перед сроком, установленным для внесения кандидатур[1358]. Нам неизвестно, была ли это единоличная инициатива Мартинсона или ей предшествовало обсуждение в кулуарах. Но сами по себе обстоятельства номинации, взятые в контексте конкретной международной политической обстановки, заставляют предположить, что подоплекой этого выдвижения были, с одной стороны, крах радужных надежд, возбужденных на Западе либеральными веяниями, наступившими вслед за XX съездом, а с другой — нежелание сводить советскую литературу к тому полюсу, который выдавался за голос монолитной советской интеллигенции. Те в Академии, кто считали важным присутствие советских писателей в кругу обсуждаемых кандидатур, могли в радостные недели весны и лета 1956 года допускать, что за первой советской номинацией может последовать и другая, что есть шанс возвращения Пастернака, благо запрет на появление его стихов в советской печати был снят, и что тем самым восстановится ситуация альтернативы при выборе представителей советской литературы, существовавшая в 1946–1950 годах благодаря рекомендациям западной интеллигенции. То, что озабоченность в нобелевских кругах вызывала именно «безальтернативность» советского представительства в списке номинантов, косвенно иллюстрируется тем, что когда в следующем, 1958, году кандидатуру Шолохова, вместо прежней официальной советской номинации, выдвинул шведский ПЕН-клуб, Мартинсон присоединился к этой заявке[1359].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Кибирова до Пушкина"
Книги похожие на "От Кибирова до Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина"
Отзывы читателей о книге "От Кибирова до Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.