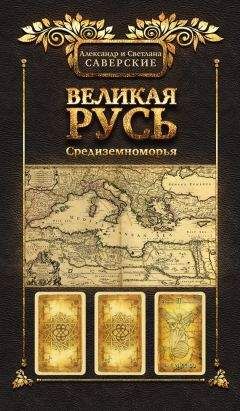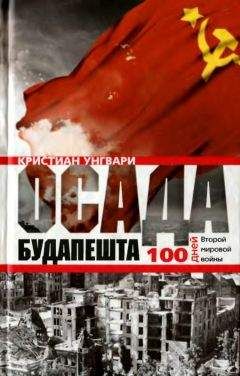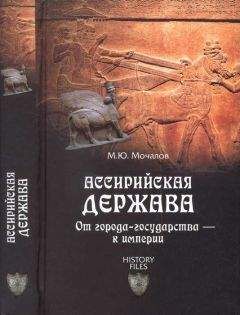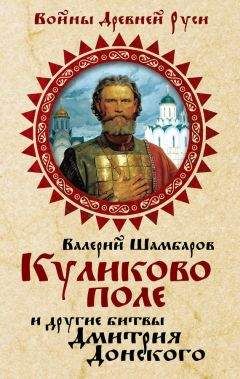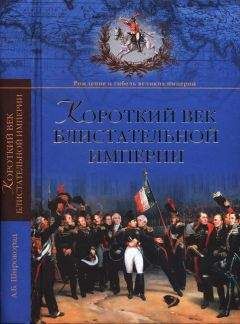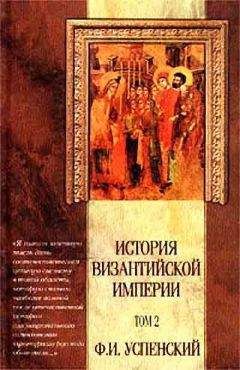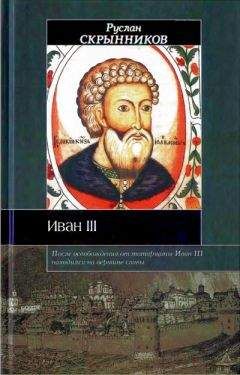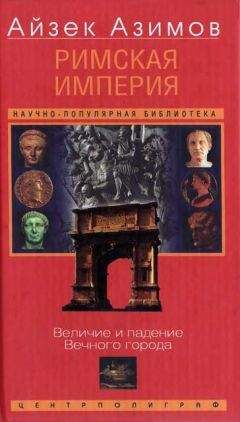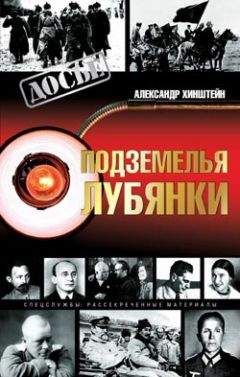Александр Торопцев - Москва. Путь к империи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Москва. Путь к империи"
Описание и краткое содержание "Москва. Путь к империи" читать бесплатно онлайн.
Книга А. П. Торопцева «Москва. Путь к империи» рассказывает о московском периоде в истории Русского государства, о возникновении города, об образовании вокруг него Московского княжества, о собирании русских земель Москвой, о возвышении и об укреплении Москвы. Уникальность книги в том, что впервые государственные, социальные и правовые проблемы молодого государства за продолжительный период времени нанизываются автором на судьбы московских правителей, их сподвижников и противников, что делает повествование занимательным и поучительным.
Книга снабжена таблицами, хронологическим и литературным указателями.
С церковью считались все русские цари. Особо важную роль она сыграла в биографии Ивана IV Васильевича. В детские годы церковь пыталась воспитывать и обучать царя и во многом преуспела: царь был яростным поборником православия, отстаивал его идеи, хотя часто его личные планы и амбиции шли вразрез с планами митрополитов. Иван IV Васильевич уже в детстве понял, какой могучей силой и властью обладает церковь. На всю жизнь остались в памяти сцены переворотов, в которых активно участвовали митрополиты Даниил, Иосаф, Макарий. Начиная с 1547 года в жизни царя большую роль, как сказано выше, играл протопоп Сильвестр.
Огромное влияние оказывала на него церковь, но не всевластное. Царь есть царь. Я царь, а вы мои подчиненные. Все. В том числе и служители церкви. Вы должны помогать, а не мешать мне. Таковой была его доктрина царской власти. Ее проводил в жизнь Грозный-царь. И чем взрослее, суровее становился он, тем жестче и бескомпромисснее вел себя по отношению к церкви, вынудив ее разрешить ему четвертый, запрещенный канонами христианства брак, а затем и пятый, шестой, седьмой.
В послании в Кирилло-Белозерский монастырь Иван IV Грозный обращается к монахам с удивительным для этого неистового самодержца тактом; чувствуется, что сдержан он от признания за священнослужителями особой власти над ним, он не принуждает, он убеждает их с упрямством несгибаемого логика, используя богатейшие знания жизни и книг.
Многое можно понять в натуре Грозного по письмам. Творчество всегда выдает творца с головой, особенно если он обращается, уязвленный, к человеку, его уязвившему. Этим человеком был Андрей Курбский, и в письмах к нему Иван решает помимо своих личных задач еще несколько государственных.
Что это? Эпистолярное творчество или публицистика; обвинительная речь на суде времен Цицерона или попытка оправдать деяния свои перед историей; бурный поток страстей или талантливо скомпонованное письмо, а может быть, крик души? Кто он, Иван Васильевич, в этих письмах: царь смертельно уставшей страны Рюриковичей или зачинатель нового литературного языка новой национальной общности, своей царственной смелостью и природной дерзостью позволивший себе литературно излагать мысли на просторечном, народном, истинно русском языке; мудрый государственный деятель или художник, не сознающий в полной мере своего истинного предназначения; а может быть, изверг рода человеческого; обыкновенный человек с бедами и несчастьями своими или толстокожий тиран? Ответить на эти вопросы и просто, и сложно. Можно сказать так: Грозный был и тем, и пятым, и десятым — со всеми противоречиями, невероятными, непостижимыми. Царь был самим собой всегда — и в письмах к Андрею Курбскому тоже.
Иван IV — политик, государь быстро набирающей мощь страны, вокруг которой закружились другие государства Европы, страны, почти созревшей для стремительного рывка на восток, на юг. Он выполнит свою миссию, несмотря ни на что. Так, видимо, ощущал свое предназначение Иван Васильевич. Курбский для него — не просто болтливый перебежчик, он — символ освобождения от власти всевидящего и всеслышащего самодержца. Это опасно.
Грозный обязан был уничтожить эту заразу, раздавить ее физически и морально. Но на символ веры костры, пытки, жезлы и прочие устрашающие акции не всегда действуют, их — проповедников, вождей — надо уничтожать словом.
Грозный бросается в схватку с изменником Курбским, не понимая — о чудак человек! — что перебежчиками становятся от судьбинушки горькой, если, конечно, человек не патологически преступен, от несправедливостей тиранов, потому не с Курбским бороться надо, а с порядками в государстве, порождающими таких отступников. Но порядок устанавливал он, а с собой бороться у него сил не было — не дано, не судьба.
В начале первого послания Грозный в стиле велеречивом, словом церковно-славянским определяет точно место, которое занимает он сам, царь, и указывает своему оппоненту на место, которое тот займет в истории. Высокое место у Ивана Васильевича. Царское. Православный христианский самодержец. Третий Рим. Прелюдия еще не окончена, но уже расставлены акценты: я царь православной державы, а ты изменник, преступник «честнаго и животворящего креста господня», губитель христианский. Для грубого политика дальше можно было бы не продолжать: предатель ты, а с таковыми у нас один разговор — на дыбу. Но Грозный не заканчивает послание и терпеливо разъясняет изменнику содеянное им и, главное, то, к чему приведет предательство: «Аще ти с ним и воевати, тогда и церкви разоряти, и иконы попирати, и християн погубляти…»
Велеречивость прелюдии быстро уступает место неистовому напору мысли и слова. Политик еще чувствуется в каждой строке, но все образнее становится речь, все больше в ней страсти, душевного откровения. Никаких преград, никаких канонов. Как хочу, так и пишу. Грозный с напряженным терпением продолжает излагать изменнику — да не ему, конечно, а тем, кто рискнет повторить его опыт, — свою точку зрения, призывая в помощники Священное писание, историю давнюю и близкую, обильно пересыпая мысли поговорками и пословицами, изречениями мудрецов и пророков.
История давняя учит. История близкая душу теребит, томит. Жизнь Грозного была суровой в годы юности, многое пришлось испытать царствующему мальчику, юноше, в том числе по вине опекуна — Андрея Курбского, и в послании к нему царь не пытается даже остановить себя от разоблачений. Воспоминания детства сработаны крепко.
Это — детство! Иван IV Васильевич с малых лет отличался крайней чувствительностью. Ребенок. В три года потерял отца. Ну уж не с ним одним беда такая приключилась, может возразить ненавидящий жестокость человек, и матушка, царица Елена Глинская, жива была. И то верно! Да только не в тихом тереме отчем, под мерный шелест сосновых лап в отдаленном от людской суеты местечке, благодатном для сказок, жила-была, детей растила вдовая царица, а во стольном граде, в самом Кремле, в центре бурлящего страстями государства. Не зря Иван IV называет матушку «несчастнейшей вдовой», от разыгравшихся нежных чувств пишет он в послании к Курбскому о юных летах своих: очень они были суровыми! Вдова с трехгодовалым Иваном и годовалым Юрием жила, «словно среди пламени находясь: со всех сторон на нас двинулись войной иноплеменные народы — литовцы, поляки, крымские татары, Астрахань, ногаи, казанцы». Казалось, князья да бояре должны сплотиться, забыть личные обиды, сообща биться за страну, но — нет! Почти все приближенные ко двору мечтали лишь о том, чтобы возвыситься, стать опекуном малолетнего царя и грабить царскую казну — богатую! Много злата-серебра собрали отец и дед Ивана IV, великие планы они мечтали осуществить. Не нужны планы князьям — деньги нужны. Перевороты в Кремле следовали друг за другом. Детей, однако, не убивали, понимая, что при малолетнем великом князе больше шансов урвать кусок…
До смерти царицы детьми еще занимались, но в 1538 году Елена Глинская умерла, и для Ивана IV начались самые страшные годы жизни. Об этом он с неподдельным чувством горечи и обиды, на высокой нервной ноте пишет Курбскому. Зачем? Разве нельзя было сухим канцелярским языком разделаться с предателем? Конечно же можно! Но о другом думал Грозный — о самооправдании. Да не перед князем, а перед потомками. Насмотрелся он с юных лет гадости человеческой, одичал, глядя на непрекращающуюся драку людей, бояр да князей, веру в них потерял. Еще в юности. Потерял, но не окончательно. И в надежде, что письмо дойдет до адресата, писал потомкам, предупреждая и поучая: не теребите детские души, не дразните драчливыми сценами неокрепшие сердца, не разрыхляйте разум, от рождения спокойный, способный взращивать из мудрых зерен добрые плоды. Я, Иван IV Грозный, жизнь свою рассказываю и кричу: берегите детей, если не хотите воспитать из них чудовищ, жадных до крови и драк. Я, Ванечка, сын Василия, во время так называемого боярского правления по закону — царь, по положению — беспризорный во дворце, видел ужастики не по видикам, но в жизни.
Очень современен для людей третьего тысячелетия нашей эры честный писатель Иван IV Васильевич в своем послании к Курбскому и особенно в том месте, где ведет он рассказ о своем детстве.
Но на этом разговор с беглым князем не окончен.
И вновь строгий учительский тон, и на каждом шагу стилистические инверсии, образы, навеянные разумом и душой, выражения крепкие и этакие покорно-приторные, страсти восклицательные и вопросительные. Грозный хорошо чувствует риторическую волну, умело использует взлеты и падения, ритмику фразы, возможности игры в вопросы и ответы. И все лишь с одной целью: изобличить изменника, нарисовать гнусный образ предателя «християн», державы, детей господних. Удалось ему это сделать? Несомненно. Но главной цели царь не достиг. Не совладал он с этой страшной для государства болезнью — синдромом диссидентства…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Москва. Путь к империи"
Книги похожие на "Москва. Путь к империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Торопцев - Москва. Путь к империи"
Отзывы читателей о книге "Москва. Путь к империи", комментарии и мнения людей о произведении.