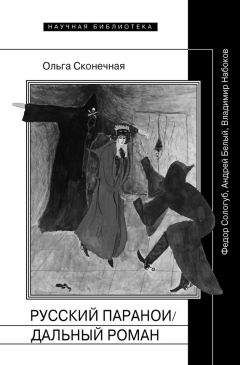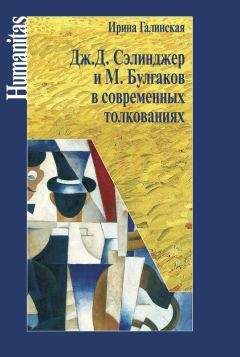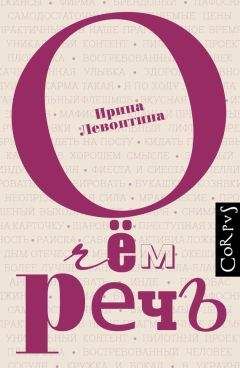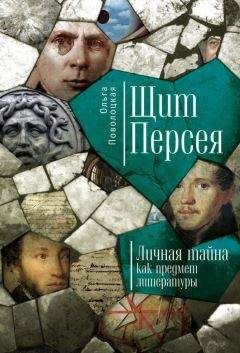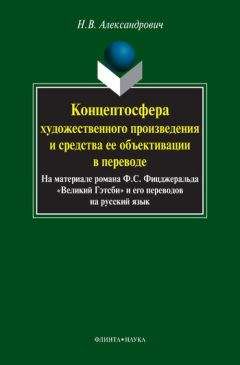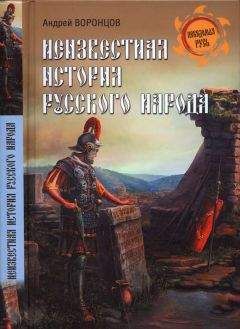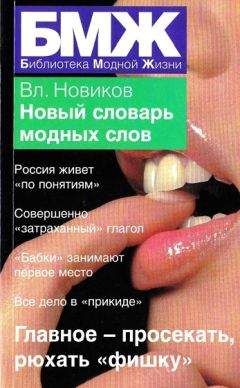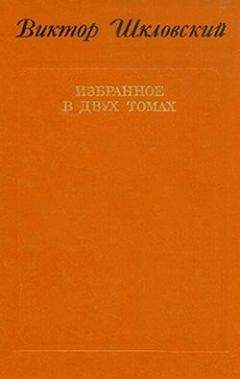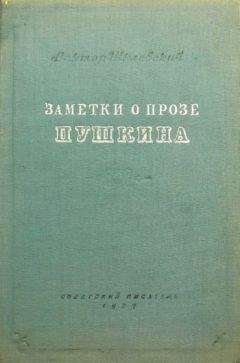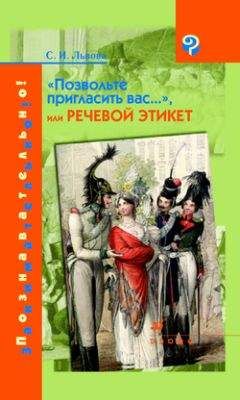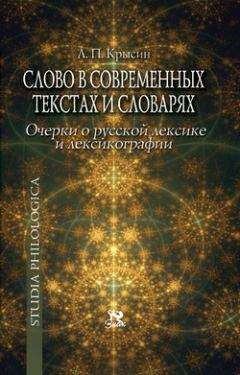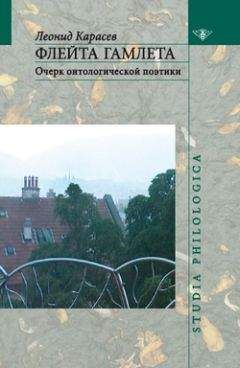Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
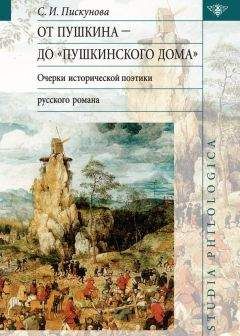
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа"
Описание и краткое содержание "От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа" читать бесплатно онлайн.
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
21 Сервантес, предположительно, умер от «водянки», как тогда говорили, то есть от какого-то почечного заболевания. «Болезнь ваша именуется водянкой, и ее не излечить всем водам океана, если б даже вы стали принимать их по капле» (8), – говорит студент, персонаж пролога к «Персилесу», живописующего вымышленную сцену встречи смертельно больного писателя со своим почитателем-собеседником на дороге из Эскивиаса в Мадрид.
22 См. главу «"Критикон" Бальтасара Грасиана: на стыке эпоса и мениппеи» в кн.: Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. Указ. изд.
«Донкихотская ситуация» в ранней прозе Достоевского
Проблема «Сервантес и Достоевский» в традиционном компаративистском аспекте разработана достаточно исчерпывающе1. Иное дело – рассмотрение романистики (шире – прозы) Достоевского (да и русского романа в целом) в контексте истории романного жанра. Так, Е. М. Мелетинский, автор труда «Достоевский в свете исторической поэтики»2, отступив от некогда заявленного им самим принципа, согласно которому историческую поэтику не интересуют никакие «влияния»3, как раз «влияния» и прослеживает, лишь избрав – по отношению к традиционной компаративистике – путь вспять: от Бальзака – к Шекспиру. При этом ученый убежден, что творчество Достоевского, «безусловно вырастает главным образом (здесь и далее выделено мной. – С. П.) как продолжение европейской литературы XVIII–XIX веков, то есть от сентиментализма до классического реализма, но иногда находятся и более классические параллели»4. Сервантесу как предтече Достоевского Е. В. Мелетинский уделяет меньше одной страницы, повторяя расхожее сопоставление образов Дон Кихота и князя Мышкина. А ведь в первом по сути историко-поэтологическом исследовании романистики Достоевского – знаменитой статье Вяч. Иванова «Достоевский и его роман-трагедия» (1916), в красноречиво озаглавленном разделе «Принцип формы» Вяч. Иванов вспоминает именно о Сервантесе как о создателе (наряду с Боккаччо – автором «Фьяметты») самого жанра новоевропейского романа – «знаменосца и герольда индивидуализма»5. Вместе с тем, трактуя великое «пятикнижие» Достоевского как воскрешение мифа и древней трагедии, а роман Сервантеса как однозначное осмеяние идеи «ветхой соборности»6, то есть как бы опровергая романтическую апологетику индивидуализма, а по сути дела выворачивая романтическое прочтение «Дон Кихота» «наизнанку», Вяч. Иванов о Сервантесе тут же и забывает: ведь у Сервантеса трагическое «обращается в комическое»7, а задача Достоевского – вернуть роман в лоно трагедии.
Продолжающая историко-поэтологические изыскания Вяч. Иванова и вместе с тем полемичная по отношению к ним, четвертая глава «Проблем поэтики Достоевского» М. Бахтина (для последнего Достоевский – писатель не только и не столько трагический, сколько комический, связанный со стихией «серьезно-смехового»), включает в список жанровых ориентиров Достоевского прозу Платона, Лукиана, мимы Софрона, буколическую поэзию (объединяя эти и другие образцы экспериментирующей фантастики общим понятием «мениппея»), а также «древнехристианскую повествовательную литературу»8, в том числе ее пародийные параллели, и другие примеры карнавализованного дискурса. Говоря о последнем, М. Бахтин особо выделяет «Дон Кихота» как «одного из величайших и одновременно карнавальнейших романов мировой литературы»9, но этой общей оценкой, да еще одним-двумя упоминаниями «Дон Кихота» Бахтин (в «Проблемах поэтики Достоевского») и ограничивается. Строго говоря, «Дон Кихот» интересен философу не как роман, а как классическое воплощение литературной пародии, в своей – наджанровой, даже надлитературной сущности – мало отличное и от так называемого «романа» Рабле, и от «философской повести» Вольтера, и от диалогической прозы Дени Дидро. Собственно западноевропейский роман раннего Нового времени – в границах от «Жизни Ласарильо де Тормес» (1554), прообраза плутовского жанра, до «Жизни и мнений Тристрама Шенди» Стерна, – как «модельная мастерская» используемых Достоевским жанровых структур находится вне поля зрения и Бахтина, и большинства современных ученых10. Имена писателей второй половины XVIII столетия – позднего Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Шиллера, а также менее значительных, таких, как Н. Леонар, фигурируют в исследованиях о Достоевском значительно чаще. Для нас же эти прозаики важны и интересны преимущественно как посредники между Достоевским и романной классикой раннего Нового времени, на которую русский классический роман – в особенности роман пушкинско-гоголевской поры – в значительной мере сориентирован. Это – подчеркнем еще раз – отнюдь не дает оснований говорить об «архаичности», «отсталости», «заторможенности» развития жанра романа на русской почве: теперь мы понимаем, что архаика может быть одной из самых актуальных, востребованных тенденций развития искус ства. Достоевский – не единственный (тут можно было бы вспомнить и Лескова, и «мистическую» прозу Тургенева, и утопию Чернышевского), но самый крупный романист второй половины 40-х – 70-х годов, сохранивший приверженность традициям романной «архаики», своего рода модернист-архаист (что, впрочем, вещь, вполне естественная!).
Конечно же, традиции раннеевропейской наррации (а также наррации сентименталистской, предромантической и романтической11) навсегда законсервировались в европейской массовой беллетристике, оформившейся как социокультурный феномен в 30-е годы XIX столетия (к ее фабульным схемам Достоевский, как известно, имел большое пристрастие). Но для писателей-реалистов второй половины столетия даже Вальтер Скотт (не говоря о Лесаже, Филдинге и Ричардсоне, а тем более, об испанских прозаиках века Барокко) казался безнадежно устаревшим. Если Сервантес (у которого тот же Скотт столькому научился) в «архаику» и не попал, то лишь как канонизированный романтиками создатель образа Дон Кихота, зажившего своей отдельной жизнью, независимой от замысла его создателя, от «плоти» сервантесовского слова.
Но именно «Дон Кихот», как и роман «сервантесовского типа» в целом (а не образ Дон Кихота и, тем более, миф о Дон Кихоте), для построения исторической поэтики романа – и романа русского в том числе! – представляет особый интерес. Тому доказательство – первый же и во многом также парадигматический (для «раннего» периода творчества Достоевского12) роман – «Бедные люди», на страницах которого – в отличие от созданного почти одновременно неприкрыто-пародийного «Романа в девяти письмах» – о «Дон Кихоте» упоминания нет, но тень «отца» Сервантеса то тут, то там возникает. О сходстве героев раннего Достоевского, и Макара Девушкина в первую очередь, с Дон Кихотом писал еще в 30-е годы прошлого столетия итальянский критик У. Л. Джусти13. Позднее – и независимо от Джусти – об этом писала Л. Розенблюм в очень точно проблемно сориентированной статье «Юмор Достоевского»14, правда, трактуя и героя Сервантеса, и героя Достоевского в аффектированно-романтической (а значит, односторонней) манере.
«Что могло быть "смешного"… в "Бедных людях"? Кто и кому мог показаться комическим лицом?», – вопрошает, полемизируя (весьма бесцеремонно и непрофессионально) с Л. Розенблюм, но в первую очередь с М. Бахтиным, А. Пекуровская15. Когда автор этих строк, опираясь на свой многолетний опыт сервантиста, взялся перечитывать «Бедных людей» и дошел до строк, откровенно пародирующих «Желание» Лермонтова – «Зачем я не птица, не хищная птица…»16, – ему тут же стало смешно. И веселость не оставляла его до конца чтения писем Девушкина. В «Бедных людях» – это еще Белинский почувствовал! – «избыток юмора»: это – роман комический, точнее, трагикомический («серьезно-смеховой», если пользоваться классификацией античных риторов), трагический в каких-то своих аспектах (судьба семейства Горшковых), но отнюдь не в трактовке центральной сюжетной линии – повести об амбивалентной, корыстно-бескорыстной, платонически-эротической псевдо-отцовской влюбленности пожилого чиновника Девушкина в его дальнюю родственницу, – обесчещенную помещиком Быковым Вареньку Доброселову, о его провалившейся попытке не то чтобы защитить девушку от жизни, а из жизни ее «изъять», превратить во вне– и наджизненного «ангельчика» – адресата его все более и более переполняемых литературными амбициями посланий. Ну нет ничего трагического в том, что Вареньке пришлось выйти замуж не за одного нелюбимого человека, а за другого, а Макар остался с надеждой получать от нее письма из степи… Правда, с сознанием, что у него «слог теперь формируется».
Модальность, в которой создан образ Девушкина, на наш взгляд, точно определяют слова Достоевского, обращенные извне – с точки зрения повествователя-автора физиологического очерка – на другого персонажа того же периода – «шута» Ползункова: «комический мученик». Но «физиологический очерк» «Ползунков» представляет героя в аспекте завершающего авторского взгляда, в то время как Макар Девушкин – что давно показано Бахтиным – как персонаж эпистолярного романа, как субъект Ich-Erzählung – такого «овнешняющего» определения, казалось бы, избежал. Тем не менее, в «Бедных людях» все же действует мощный фактор «овнешнения» – стиль, который постепенно вырабатывает Девушкин, персонаж, взыскующий литературного воплощения, примеривающий к себе, на себя роли-маски различных литературных героев, от анти-Ловласа (Ловласом он видится Ратазяеву) до Самсона Вырина. И этот стилевой маскарад воистину комичен. За чередой жанрово-стилевых «масок» Девушкина и более «серьезных», рассудительных писем Вареньки, столь же «олитературенных», как и письмо Татьяны Онегину17, автор и стремился, по его собственному, не раз цитировавшемуся, признанию спрятать собственную «рожу».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа"
Книги похожие на "От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа"
Отзывы читателей о книге "От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа", комментарии и мнения людей о произведении.