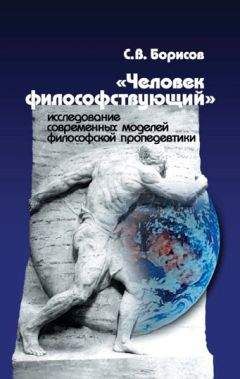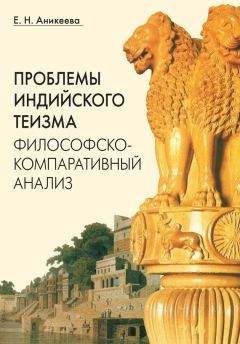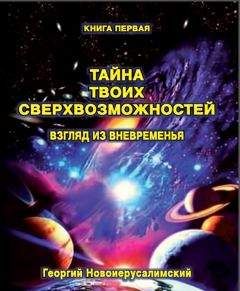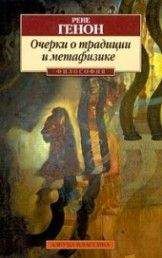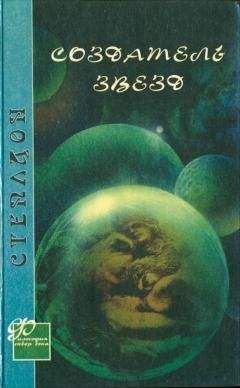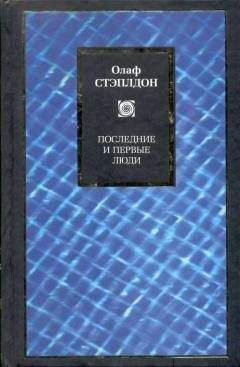Ольга Кулешова - Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного
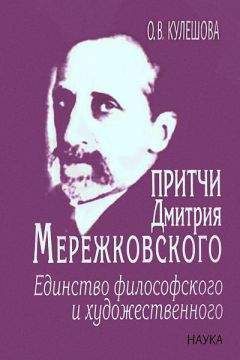
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного"
Описание и краткое содержание "Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена творчеству одного из видных представителей Серебряного века Д.С. Мережковского в период эмиграции (1920–1941). На материале философской прозы последних лет жизни писателя анализируется его философско-художественная концепция, соединившая в себе вековые культурные традиции, абсурд современного "сегодня" и печать личной драмы изгнанника, окончившего дни на чужбине. Эмигрантский период творчества Д.С. Мережковского признаётся самодостаточным и не менее значительным, чем дореволюционный. Его философская концепция представлена в контексте мировой философской и литературной традиции. Впервые эмигрантское творчество писателя рассматривается в рамках единого концептуального полотна, воплощённого в форме философско-биографического романа-концепции.
Для филологов и всех, кто интересуется творчеством Д.С. Мережковского.
Кулешова О.В. Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного. — Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. — М. : Наука, — 2007. — 212, [2] с. — ISBN: 978-5-02-033852-4
В «Мессии» Мережковский использует сюжет предыдущего романа. Философский диалог на этот раз ведут Дио и Пентаур, влюбленный в героиню. Вновь мотив неразделенной любви героя граничит с образом смерти, и вновь идея смерти из-за неразделенной любви, мотивированная чувственно, вырастает до подвига гибели за идею. Пентаур в последнее мгновение жизни открывает истину, свидетельствующую о вечном существовании христианства от сотворения мира, объясняющую призрачность, схоластичность философских разногласий его с возлюбленной. Сын был или будет? Вопрос становится несущественным \168\ для героя, успевающего понять: «Был, есть и будет!»[195]
Главная философская линия в романе, выраженная вопросом-антиномией: «Сын был? — Сын будет?», разрешается и в философских диалогах других персонажей. Сюжетная линия отношений господина и раба — Хнумхотепа и Юбры — от нравственного конфликта переходит к конфликту философскому. Обида раба на господина, отнявшего у Юбры жену, желание обретения личной свободы перерастает у героя в философское обобщение — предвидение новой религии христианства и прихода Христа Освободителя. Пришедший освободит рабов, возвысит униженных, накажет злых и несправедливых, уравняет бедных и богатых. Философский диалог героев вскрывает не только идею вечного присутствия Христа на Земле, проповедуемую Мережковским согласно с антропософией Штайнера, но и раскрывает идею о достижении социальной справедливости единственным путем — стремления к духовному совершенству и достижения духовного абсолюта — Царства Божия.
Антиномичность, сложность характеров, создаваемых Мережковским, заимствованные у Достоевского, не позволяют им стать схемой, придатком идеологической концепции. Его герои мучаются «вечными» вопросами, их споры идеологичны, что, однако, не лишает образы пластичности и полноты. Сохранить пластику образов Мережковскому вновь помогают портретные зарисовки и символические пейзажи, делая мир идей, в котором \169\ живут герои, объемным, максимально приближенным к реальности и историческому времени. Так, внутренняя дисгармония характера Хнумхотепа, выраженная в раздвоении его морального облика, передается портретной зарисовкой: «Хнум был так высок ростом, что маленькая Нибитуйя казалась перед ним почти карлицей; прям, сух, костляв, с жестким, точно из твердого коричневого дерева выточенным, угрюмым и как бы злым лицом; но когда он улыбался, оно становилось очень добрым»[196]. А борьба веры и безверия в душе героя изображается с использованием чувственных образов, обретающих значение символа: «В молодости он сомневался, не лучше ли краткий день жизни, чем темная вечность, и не правы ли те, кто говорит: “Умер человек — как пузырь на воде лопнул — ничего не осталось”. Но к старости все больше узнавал — осязал, как рука осязает завернутый в ткань предмет, что там, за гробом, что-то есть, и так как никто не знает, что именно, то проще и умнее всего — верить, как верили отцы»[197].
Особого внимания в романе «Мессия» заслуживает социальный вопрос, решение которого, согласно философской концепции автора, возможно не в земной государственности, а лишь с наступлением теократии при достижении человечеством духовного абсолюта в Третьем Завете Матери-Духа. Попытка установления социальной справедливости на Земле путем кровавого бунта и перераспределения материальных благ описывается Мережковским в духе Достоевского и В. Соловьева. \170\ Мережковский рисует апокалиптические картины Царства Антихриста, впервые созданные Достоевским в «Легенде о Великом инквизиторе» и В. Соловьевым в «Антихристе», воплотившиеся в реалиях XX столетия в России. В уста прорицателя Мережковский вкладывает пророчество о великом зле социальной революции, несущей уничтожение духовного начала в человеке, нивелировку личности и утверждение примата материального и чувственного, превосходство бытового над бытийственным: «Будет зло бесконечное. Люди богам опротивеют, боги землю покинут, на небо уйдут. Солнце померкнет, земля запустеет.
Взвоют стада на полях, сердце скотов заплачет о людях, люди же плакать не будут — будут смеяться от скорби. Скажет старик: “Умереть бы!” и дитя “Не рождаться бы!” Будет великий мятеж по всей земле. Скажут города: “Изгоним начальников!” Вторгнется чернь в палаты суда; свитки законов будут разорваны, межевые списки расхищены, стерты межи полей, пограничные столбы повалены. Скажут люди: “Нет чужого, все общее; и чужое — мое; что хочу, то возьму!” Скажет бедный богатому: “Вор, отдай, что украл!” Скажет малый великому: “Все равны!” Жить будет в доме дома не строивший; непахавшие наполнять житницы; в ткань облекутся не ткавшие, и смотревшаяся в воду будет смотреться в зеркало. Золото, жемчуг, лапис-лазурь будут на шеях рабынь, а госпожа пойдет в рубище, скажет: “Хлебца бы!” Новыми богами сделаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника!»[198] \171\
Народный бунт жестокий и кровавый, страдание, голод и смерть описаны Мережковским с натуралистическими подробностями не случайно. Нелицеприятные картины уличной жизни (голодная нищенка с ребенком на руках, сцена народного собрания в кабаке) чувственно правдивы, осязаемы, максимально реалистичны. Подобное нагнетание автором натуралистичных описательных деталей служит своеобразным приемом проверки философской идеи произведения. На создание отвратительных картин народного восстания Мережковского вдохновляет не ницшеанское презрение к толпе (как, на наш взгляд, необоснованно считает ряд современных исследователей творчества писателя), а стремление показать, как плоха идея. Главная причина народного восстания в романе — вопрос духовного порядка: «Сын был? Или Сын будет?», разрешаемый на философском уровне судьбами различных персонажей, — перерастает в тривиальную мотивировку действий повстанцев — перераспределение материальных ценностей под лозунгом: «Грабь богатых!», вождем которых становится кладбищенский вор Кики Безносый. Подобный поворот сюжета необходим Мережковскому, во-первых, для обоснования призрачности разногласий спорящих, неспособных понять истину, еще закрытую для представителей дохристианского мира, открывшуюся Пентауру перед смертью: был, есть и будет; во-вторых, для выяснения истинной сути любого бунта, совершающегося путем насилия над человеческой личностью, несмотря на благородство и \172\ боговдохновенность идеи, воодушевляющей его участников. За описанием событий многовековой давности угадывается ужас автора перед реалиями русской революции, начавшейся во имя человека, свободы и братства и обернувшейся кровавым ликом насилия, разрушения и рабства.
Особую роль в романе играет образ царя Ахенатона. Он открывает портретную галерею выдающихся исторических личностей, принимающих участие в развернувшейся христианской мистерии на Земле от сотворения мира до его полнейшего слияния с всеобъемлющим духовным абсолютом. Все участники христианской мистерии дописывают картину мира, выполняя свою особенную мистериальную роль, располагаясь в истории не в хронологическом порядке земного исторического времени, а находясь в круговом центростремительном движении к одному центру притяжения, обещающему Конец истории путем слияния с абсолютом, — ко Христу.
Все исторические личности, играющие значительную роль в мировой истории (т. е., согласно теории Мережковского, приближающие Конец мира, стремясь к достижению Царства Божия) отмечены, по мнению автора, печатью Святого Духа, но вместе с тем и не лишены свободы воли. Поэтому противоречивость и антиномичность — основные черты героев Мережковского. В противоборстве духовного света, исходящего свыше и открытого героями в своей душе, со злыми силами чувственной и темной человеческой природы происходит формирование каждой выдающейся \173\ личности, прорывающейся сквозь бездны «темной ночи», когда спит неразбуженная душа, к вершинам Духа, соединяющего ее с духовным абсолютом (ср. с философией Р. Штайнера, проповедующего необходимость раскрыть духовные очи человека путем преодоления чувственного познания и посвящения в знание мистериальное). Поэтому нам представляется нецелесообразным рассматривать историческую канву романа Мережковского, определяющего историю как воплощение мистической идеи, искать историческую правдивость образа и соответствие событий реальной хронике. Образ царя Ахенатона, найденный Мережковским в дохристианском мире, призван осветить фигуру Того, Кто стоит за ним, правильно понять и верно исповедать человечеству, еще не ведающему Спасителя, истину христианства: «Бог есть любовь» — и, поборов собственную гордыню, т. е. богоборческую идею ницшеанства, пережитую человечеством, по мысли Мережковского, еще в преистории (миф об Атлантиде), понять: «я не Он».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного"
Книги похожие на "Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Кулешова - Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного"
Отзывы читателей о книге "Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного", комментарии и мнения людей о произведении.