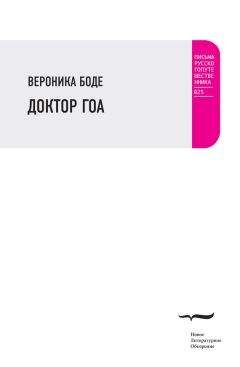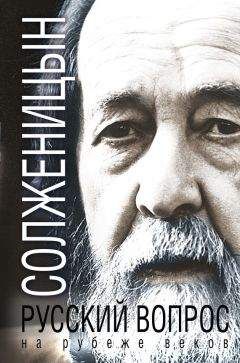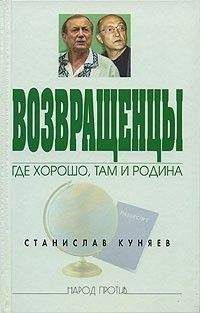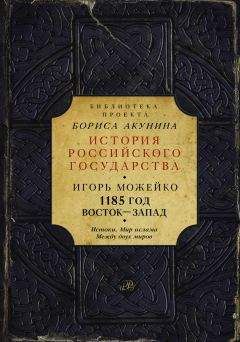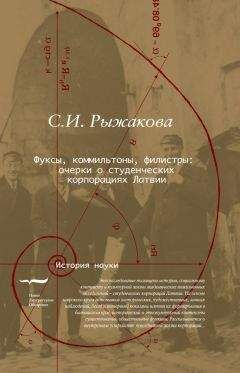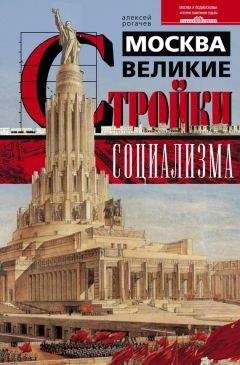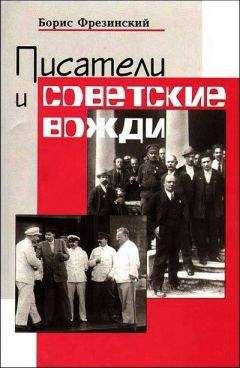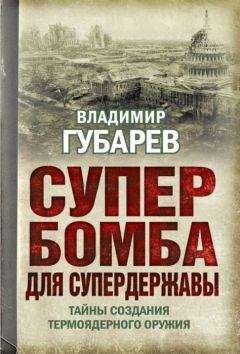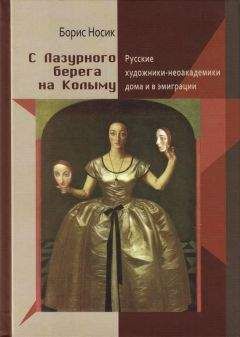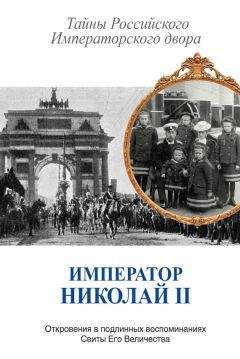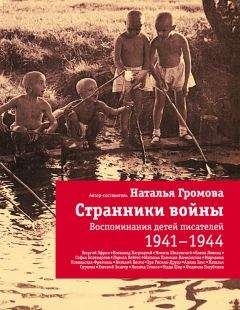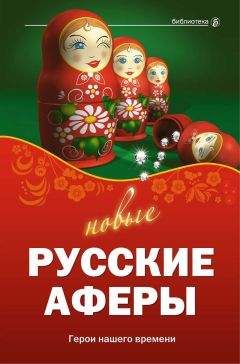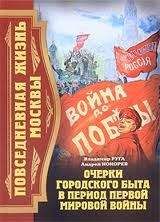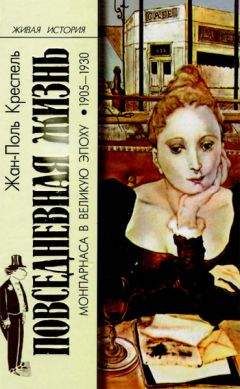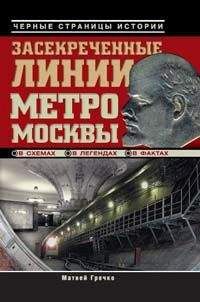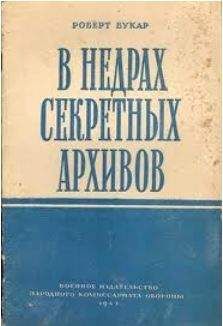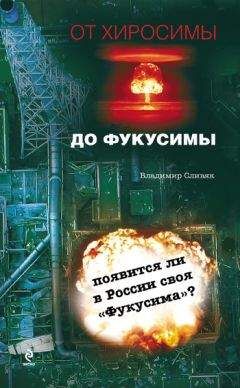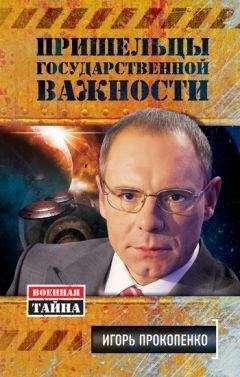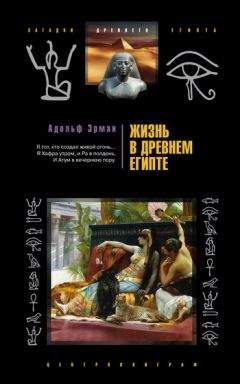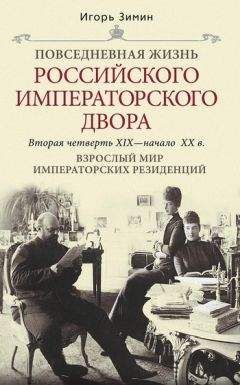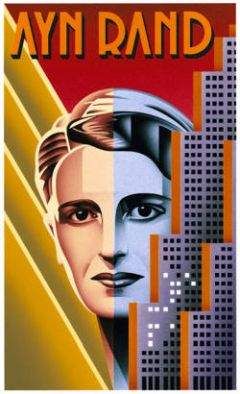Георгий Кизевальтер - Эти странные семидесятые, или Потеря невинности
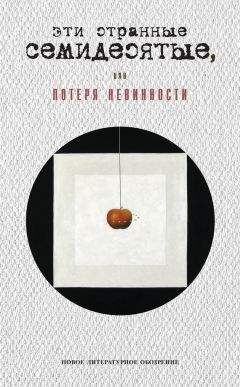
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Эти странные семидесятые, или Потеря невинности"
Описание и краткое содержание "Эти странные семидесятые, или Потеря невинности" читать бесплатно онлайн.
В этом сборнике о 1970-х годах говорят активные участники тогдашней культурной жизни, представители интеллектуальной и художественной среды Москвы – писатели и поэты, художники и музыканты, коллекционеры и искусствоведы. Говорят по-разному, противореча друг другу – и эти противоречивые «показания» дают возможность увидеть непростое время в некоторой полифонической полноте. Сборник проиллюстрирован фотографиями из архивов Георгия Кизевальтера, Игоря Пальмина, Валентина Серова, Владимира Сычева, Игоря Макаревича, многие из которых ранее не публиковались.
И.М.: Нужно сказать, что и в середине семидесятых отъезды не прекращались. Отъезды очень часто были немотивированными, как в случае с теми же Герловиными. Люди, настроенные на серьезный образ жизни, на работу здесь, вдруг сорвались с места и уехали. У меня тогда изменилось к ним отношение – мотивация отъезда была очень слабая…
Е.Е.: Ну, Валеру же выгнали тогда с работы…
И.М.: Ситуация повсеместных отъездов знакомых нашего круга и друзей порождала в некотором роде благотворную ситуацию раскованности. Если взять пример того же Косолапова, то с ним произошло следующее. Когда он собрался уезжать и тяжелая пята государства слегка ослабела, он создал свои лучшие работы, потому что оказался в некоем безвоздушном пространстве. Примерно то же самое происходило потом и с Соковым. А когда они оказались на Западе, им приходилось бороться за выживание, и это отнимало очень много сил. Поэтому первые годы там они были просто парализованные. Здесь же у них было предотъездное «парение», «планирование»; они были «в подаче», и это порождало очень плодотворную, творческую ситуацию.
Такие же импульсы посылались и нам, остающимся: предотъездная ситуация освобождала от многого, что мешало жить раньше, от безысходности. Возникала общая эйфория, опьянение, мы избавлялись от чрезмерной серьезности, от излишней привязанности к каким-то берегам.
Я начал общаться с альтернативным миром в конце 1960-х годов, но скорее это были неодиссидентские круги. Скажем, у меня были такие друзья Эрастовы, у которых по идейным соображениям было восемь детей. При этом они их не любили и даже страдали оттого, что их окружает такое количество детей, но такая была программа. Мне это казалось почти преступлением, потому что дети были бедные и замаранные, напоминали сирот из детского приюта, но когда они выросли, они вдруг превратились в чудесных людей, и их бедность способствовала развитию высокой духовности. Но, повторю, поначалу наблюдать мне это было тяжело.
И этот дом посещали люди, которые вернулись из мест заключения и любили обсуждать какие-то альтернативные формы жизни и культуры. Там я познакомился с Айги, а через него – с художниками Вулохом, Ворошиловым, Гробманом, с Севой Некрасовым. Но надо вспомнить, что МСХШ, в которой я учился, тоже была местом либерального вольнодумства, в то время как моя семья была хранилищем официальной идеологии. Так что мои школьные знакомства породили интерес к совершенно другим предметам. В этой школе учились и Косолапов, и Соков, и даже – из старших – Нусберг, с которым я слабо общался. Я учился с Инфанте в параллельном классе. Так что там зарождались первые ростки нашего инакомыслия. И эту школу закончили очень многие члены генералитета нашего нонконформистского содружества: Янкилевский, Кабаков, Булатов, Васильев – они учились там, еще когда школа была в эвакуации. Но с Кабаковым, например, я не мог дружить из-за большой по тем временам разницы в возрасте. Кроме того, там была уже сформированная среда, которая не очень охотно допускала неофитов в свои ряды. Желающих было много, и их приходилось фильтровать. Это не значит, что вышеупомянутые художники были недоброжелательны, просто проникнуть туда было непросто.
Позже мне очень многое дала дружба с Герловиными. Они вели здесь очень активный образ жизни, постоянно общались, особенно Римма, потому что она очень живой человек, а Валера более обстоятельный. У них даже была визитная карточка – редкость по тем временам, – где было написано: Римма и Валерий Герловины, художники-концептуалисты. И они были стопроцентные художники. У них все было очень тщательно и качественно сделано – за это, по складу характера, отвечал Валера. На фоне достаточно безалаберной культуры ремесла того времени в России изделия Герловиных отличались высокой техничностью. И им было легко считаться здесь первыми концептуалистами. Это была очень узкая область, так же как и на Западе, поэтому там им, напротив, пришлось совсем нелегко.
Е.Е.: Интересно то, что Герловины позиционировали себя именно как концептуалистов, и в этом смысле они действительно были первыми.
И.М.: И одновременно это выглядело несколько анекдотично…
Тогда Кабаков был, конечно, лидер. К нему приезжали с поклоном со всей Руси. Как я уже упоминал, ему приходилось многих отшивать. Было немыслимо принять всех и отдать столько времени на массовое общение. Кроме того, хотя он и был лидер, он не был Учителем. Причем позже, к восьмидесятым годам, он стал мягче и спокойнее, когда его место уже было непререкаемо и ему не нужно было его постоянно утверждать. Этому способствовала и мастерская на чердаке. Так вышло, что эту башню из слоновой кости, которую они строили с Соостером, он занял один.
Е.Е.: Но еще были и Васильев с Булатовым. Я помню, что мы ходили к ним, как в какую-то тайную ложу, так преподносилось это посещение…
И.М.: Это бесспорно. Но Булатов с Васильевым были больше заняты проблемами пространства. Хотя по характеру и темпераменту Булатов более подходит к тому, чтобы быть Учителем. У него есть формальная доктрина, и эту доктрину он может логически развивать и передавать эти постулаты ученикам. А у Кабакова не было учеников как таковых, а была среда, в которой он был, конечно, центровой фигурой, и к нему притягивались самые разные люди.
Е.Е.: К Кабакову я первый раз попала еще в конце шестидесятых годов, а к Булатову стали ходить, я думаю, уже ближе к восьмидесятым.
И.М.: Была такая Наташа Яблонская, искусствовед, которая потом эмигрировала – фиктивно вышла замуж за Андрея Волконского и вывезла его, потому что он в советское время не имел никаких прав и шансов на выезд. Так вот, она до своего отъезда занималась тем, что собирала группы молодых художников и водила их по мастерским известных неофициальных мастеров. Вот с такой группой я в 1971-м или 1972 году попал к Кабакову. Но никакого личного общения не было тогда, а с Булатовым я познакомился значительно позже, в конце 1970-х. Мы пришли к ним с Аликом Сидоровым, и прицел был сделан на издание журнала в Париже.
Е.Е.: В семидесятые я много работала с монументалкой, вместе с Неизвестным, и как бы в противовес этому огромному искусству я для себя делала графику, очень маленькую. Офорты. Многие доски так и стоят до сих пор ненапечатанные.
И.М.: В конце шестидесятых Кабаков делал поп-артистские объекты, альтернативы которым в среде не было. Эти были довольно большие работы, и это был другой язык. Никто другой в то время не мог создать у нас параллели поп-арту. Там не было никакой возвышенности, никакого сюрреализма – составных частей нашего искусства. Были обыденные предметы: мячик, рука, палка. Это были профанные вещи, употребление которых не только не пользовалось популярностью, но ставило в тупик даже его ближайших друзей.
Е.Е.: Потому что тогда преобладали «духовка» и романтический подход к искусству.
И.М.: Несмотря на то что он впоследствии отдал должное «духовке» в «шифферсовских» комментариях к альбомам…
Е.Е.: Мне кажется, что это было ему достаточно чуждо.
И.М.: Его преследовала идея надевания масок, идея матрешки…
Е.Е.: Он никогда не делал романтических, духовных работ – их просто нет у него!
И.М.: Но он защищал свой диплом – по Шолом-Алейхему, «Блуждающие Звезды», – с серьезным намерением ввести в свое искусство национальную тематику, и это было искреннее, романтическое произведение. И ему стоило значительных усилий отделаться от этого романтического подхода…
Е.Е.: Он тоже долго искал свой путь в искусстве. И он первым начал делать работы с текстами.
И.М.: Но вот что рассказывают о нем его друзья. Скажем, Олег Васильев – очень искренний, честный и прямой человек, отличающийся даже некоторым простодушием. Он рассказывал про Кабакова, что того просто одолевала страсть придумывать какие-нибудь истории. Когда они ездили в метро, он показывал на людей, сидевших напротив, и предлагал рассказать про них разные истории: чем они занимаются, кто такие, где живут. То есть он очень хотел снабдить их мистифицирующей оболочкой.
Е.Е.: Вербальная, литературная сторона была явно очень важна.
И.М.: Да, и это просто его душило, пока он не выдумал персонажей, и тогда его творчество потекло свободным потоком.
Е.Е.: И его коммунальное детство тоже требовало выхода, что и произошло в конце концов.
И.М.: Из других ярких личностей можно вспомнить Вейсберга…
Е.Е.: Из Питера приезжал Шемякин. Он был очень моден. Это было, без сомнения, оригинальное явление, быстро появляющееся и исчезающее…
И.М.: Шемякин был весьма экстравагантен. Ходил в цилиндре и шинели. Шокировал театральностью своего облика.
Е.Е.: Вот еще в своем кругу был звездой Юрий Купер.
И.М.: Нет, прежде всего Дмитрий Лион, потому что Купер был его последователем, если не учеником… И Шварцман, конечно: он дружил с Геной Айги. Я впервые услышал о Шварцмане от него. Айги вообще очень дружил с художниками.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эти странные семидесятые, или Потеря невинности"
Книги похожие на "Эти странные семидесятые, или Потеря невинности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Кизевальтер - Эти странные семидесятые, или Потеря невинности"
Отзывы читателей о книге "Эти странные семидесятые, или Потеря невинности", комментарии и мнения людей о произведении.