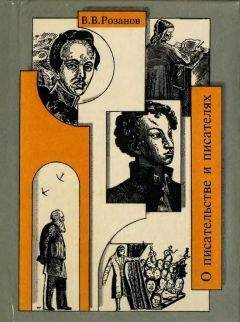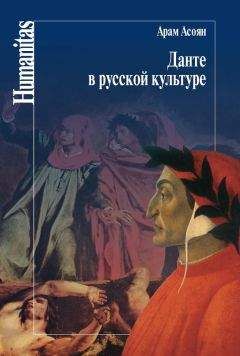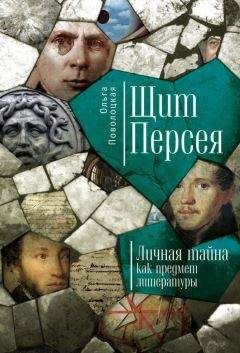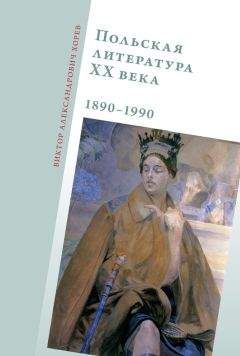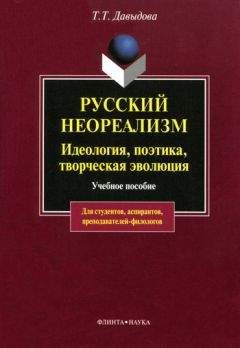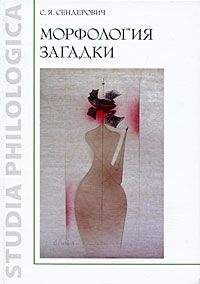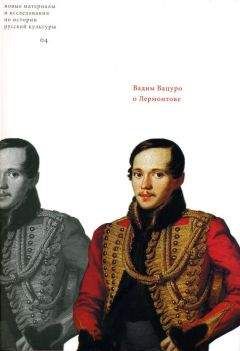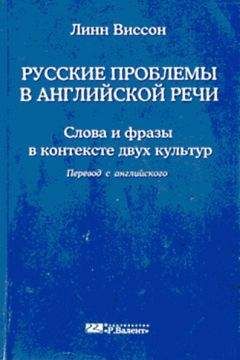Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов
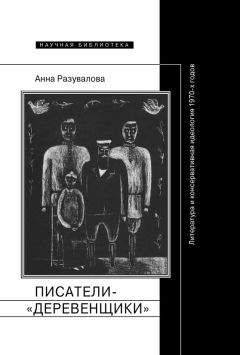
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Описание и краткое содержание "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать бесплатно онлайн.
Исследование посвящено особенностям «деревенской прозы» 1960-1980-х годов – произведениям и идеям, своеобразно выразившим консервативные культурные и социальные ценности. Творчество Ф. Абрамова, В. Солоухина, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и др. рассматривается в контексте «неопочвенничества», развивавшего потенции, заложенные в позднесталинской государственной идеологии. В центре внимания – мотивы и обстоятельства, оказавшие влияние на структуру и риторику самосознания писателей-«деревенщиков», темы внутреннего диссидентства и реакционности, «экологии природы и духа», памяти и наследования, судьбы культурно-географической периферии, положения русских и русской культуры в советском государстве.
Любой «деревенщик», порывшись в столе, найдет вам десятки отповедей <…> критиков, где в закрытых рецензиях, давая «отлуп» тому или иному, ныне широко известному произведению, глумливо, с интеллектуальным сарказмом писалось, что в «век НТР и этакая вонь онучей?», «да куда же вы идете-то и насколько же отстали от жизни и передовых идей?»[588].
Упреки «деревенщикам» в непонятной любви к «задворкам» цивилизации в самом деле периодически раздавались на протяжении 1960-х и 1970-х годов[589], но все же Астафьев заострил внимание лишь на одной, задевшей его писательское самолюбие, стороне вопроса. Факты, тем не менее, свидетельствуют и об обратном – наличии у писателей-«неопочвенников» поддержки со стороны критики и, как показали Николай Митрохин и Ицхак Брудный, представителей официальных инстанций[590]. Роль символических преемников русской классической литературы, на которую критика «долгих 1970-х» совместными усилиями ввела «деревенщиков», также давала им ряд явных и неявных преимуществ. В этой главе речь пойдет о дискурсах традиции и наследования в процессах индивидуальной и групповой самоидентификации «деревенщиков». А поскольку новые интерпретации русской классики и базирующиеся на них схемы самообъяснения вырабатывались и распространялись критиками и публицистами, деятельности последних в этой главе также будет уделено особое внимание.
«Консервативный поворот» и «классикоцентризм»[591] «долгих 1970-х»
Чтобы убедиться в «классикалистских» предпочтениях культуры «долгих 1970-х», достаточно бросить беглый взгляд на периодику. Газеты и журналы сообщают о праздновании во всесоюзном масштабе юбилеев классических авторов, бурно обсуждают постановки классики на театральной сцене и в кино, предлагают новые варианты прочтения известных со школы текстов, в очередной раз констатируют благотворность влияния классического искусства на современность. Советские школьники, юноши и девушки брежневской поры, внимающие стихам Пушкина и что-то открывающие в этот момент в себе, – выразительная сцена из фильма Динары Асановой «Ключ без права передачи» (1976), ставшая визуализированной эмблемой интеллигентского переживания контакта с классикой-Культурой в годы «застоя». «Предстояние» героев перед памятником Пушкину, вслушивание в стихи современных поэтов знаменовали перемещение из казенно-правильного мира советской школы, ассоциируемой с государством, в пространство настоящих чувств и жизни.
Дискуссии о классике в позднесоветском газетно-журнальном пространстве возобновлялись регулярно, но оставляли впечатление пробуксовывающих на месте, – из года в год при помощи одних и тех же аргументов обсуждалась одна и та же «нестареющая» проблема «классика и современность». К классике как исторически специфицированному явлению эти дебаты имели косвенное отношение. Длившийся десятилетиями разговор о ней был ориентирован на другое – постоянное воспроизведение формул объяснения мира и человека, выработанных классикой и очерчивающих более или менее единое смысловое пространство для ее читателей, как «профессиональных», так и знакомых с ней в объеме школьной программы. По сути, русская классика, в качестве «великого наследия» окончательно апроприированная советскими институтами, в «долгие 1970-е» стала одним из главных факторов поддержания коллективной культурной идентичности разных слоев и групп.
«Классика всегда определяется тем, для чего ее используют»[592], – заметил Антуан Компаньон, и существование русской классики в культуре «застоя» подтверждает точность этого наблюдения. Интеллигентская среда и массовый читатель разделяли уверенность в том, что именно классика способна дать ответы на вопросы и запросы, исходившие от противоположно ориентированных социальных групп. Несменяемость авторитетов, составлявших классический пантеон, регулярность празднуемых юбилеев, продуцировали смыслы, связанные с утешительной для власти идеей стабильности существующего порядка. Одновременно диссидентствующая часть советской интеллигенции черпала из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.И. Герцена поучительный опыт «тайной свободы». В признании всеобщей значимости отечественной классики были солидарны тогда и традиционалисты, и «новаторы». Основополагающий тезис доклада Петра Палиевского, с которым он выступил в ходе дискуссии «Классика и мы» (1977) – «не столько мы интерпретируем классику… сколько классика интерпретирует нас»[593], – вызвал единодушное согласие у всех, кто бурно оппонировал друг другу в ходе сопровождавшегося скандалами заседания. «Опора на нравственный авторитет классики, аргументация от традиции»[594] (курсив автора. – А.Р.), по определению Галины Белой, стали интеллектуально-эстетическими приоритетами 1970-х, а неизбежные издержки «классикализации» культуры этого периода в иронической формуле суммировал Станислав Рассадин: «трепет перед классикой стал такой же модой, как прежнее отрицание ее»[595].
Очередная «нобилитация» классики протекала в контексте позднесоветской «нобилитации традиции»[596]. В 1970-е культурный радикализм 1920-х годов стал официально рассматриваться как возмутительный «перегиб» и проявление нигилизма, вовремя пресеченные Лениным[597]. О небезобидности переворачивания культурной иерархии, в результате которого классику уже как-то раз сбросили «с парохода современности», часто напоминала правая критика в лице П. Палиевского, Вадима Кожинова, Михаила Лобанова, Юрия Селезнева и др.[598] Впрочем, идея безусловного авторитета русской классики находила самый широкий отклик у многих групп позднесоветской интеллигенции[599], в том числе и тех, кто не исповедовал «неопочвеннических» идеалов, но полагал, что культурный консерватизм, то есть поддержание иерархично устроенной классикоцентричной культуры, есть единственно разумная политика, позволяющая, во-первых, поставить преграду «упрощению», «безвкусице», «пошлости», во-вторых, изжить неискорененную с 1920-х годов «левизну»[600]. Консенсус на почве защиты классики от современной «антикультуры» порождал неожиданные союзы. Так, во время дискуссии «Классика и мы» в унисон с Палиевским и Лобановым выступила Ирина Роднянская, проработавшая с 1971 по 1976 год в «прогрессивном» ИНИОНе и публиковавшаяся в «Новом мире»[601]. В своей речи она уподобила классику «незыблемой пристани в водах <…> культурного релятивизма»[602] и высказала несогласие как с формалистским ви´дением проблемы наследования через «канонизацию» и «остранение», так и с современными социологическими штудиями (в частности, книгой Игоря Кона «Социология личности», 1967), поскольку оба подхода, с ее точки зрения, подтачивали главенство классической литературы. Как видим, типичная для консерватизма апелляция к «устойчивым» структурам[603] (классика здесь выступает гарантом сохранности традиционной аксиологической иерархии) сплотила в «долгие 1970-е» разные интеллектуальные группы, но правые силы продвинулись в этом направлении дальше остальных и попытались обосновать классикоцентристским аргументом уникальность исторического пути России: если великая классика XIX века, предсказавшая все проблемы современности, есть главное достояние России[604], то надо предпринять меры по ее защите от «искажений».
Примечательным образом оживление интереса к «традиционным ценностям» и классической литературе в «долгие 1970-е» совпало с очередной интенсификацией употребления критиками, искусствоведами и обществоведами понятия «народность». В качестве идеологического клише «народность» в русской культуре XVIII–XIX веков имела долгую и замысловатую историю[605], перипетии которой в позднесоветских парафразах «народности» каким-то образом учитывались. В обновленной версии 1960 – 1970-х годов «народность» соотносилась с «простонародностью» и «демократизмом», генерируемыми антиэлитаристским настроем. Историко-генетически он был связан, помимо прочего, со сталинским национал-большевизмом[606] и легитимировал «народ» в качестве главной, но социально трудно опознаваемой исторической силы. Кроме того, «народность» в этот период понималась в духе известного пушкинского высказывания[607] – как воплощение специфичных для национальной культуры форм мышления, чувствования, поведения. Формирующийся правый лагерь с 1960-х годов рассуждал о «народности» как синониме «национального своеобразия», хотя употребление последнего понятия было более жестко регламентировано[608]. «Наращиванием народности в литературе», «все большим ее влиянием на общественное, даже политическое сознание, несмотря на преследования со стороны антирусской (будущей “демократической” прессы)»[609], датировал конец 1960-х годов М. Лобанов, тем самым откровенно обнаруживая этноцентристские смыслы «народности», то «корневое», «русское», что было важно для правых сил и не имело в интернационалистском официальном политическом лексиконе приемлемого обозначения. Но даже тогда, в конце 1960-х – 1970-е годы, был заметен дискурсивный сдвиг, возникший в результате удачного манипулирования этим концептом: приспособив давно ставшую элементом официального «новояза» «народность» к своим целям[610], «неопочвенники» представили ее как отличительное свойство русской культуры, а нацию (не класс), «раскинувшуюся поверх социальных барьеров», перевели в ранг «основной движущей силы истории»[611].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Книги похожие на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Отзывы читателей о книге "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.