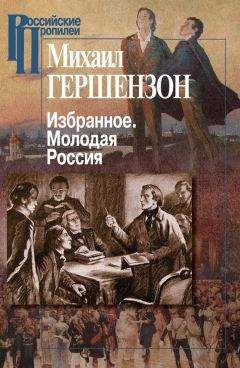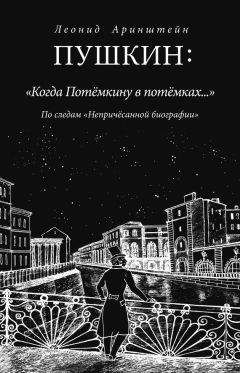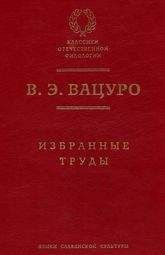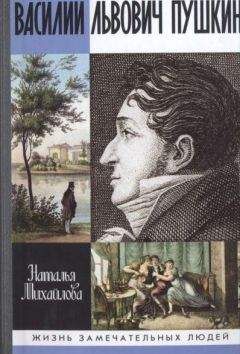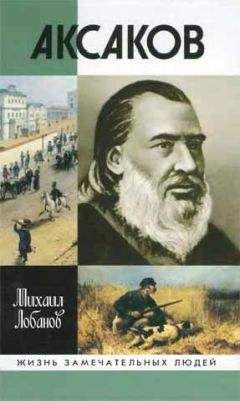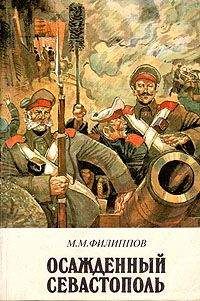Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное. Мудрость Пушкина"
Описание и краткое содержание "Избранное. Мудрость Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
и т. д.
Кто это говорит? кто кого спрашивает? Ведь здесь ничего понять нельзя. А так эти стихи и печатаются искони. Но стоит прочитать их внимательно, и они загораются ясным и острым смыслом. Это – диалог, его можно напечатать так:
Поэт:
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой».
Критик:
«Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить?»
Поэт:
«Смотри, какой здесь вид»
и т. д.
Поэт отвечает желчно, с силой, – оттого резко ломается и ритм, так что вместо правильного чередования мужских и женских попарно рифм рядом оказываются две пары женских: оставить – позабавить, убогий – отлогий. – Вот пример Пушкинских нелепостей, живущих нашим непониманием. Странный и анекдотический «Домик в Коломне» – другой пример такого же рода.
Понять «Домик в Коломне» можно, только погрузившись сочувственно в настроение, которое переживал Пушкин в дни создания этой поэмы. Она написана в октябре 1830 года в Болдине; под 12-й строфой ее в черновой рукописи значится дата: 5 октября, под последней —10 октября. При быстроте, с какою он писал в ту осень, когда например «Метель» была окончена 20 октября, «Скупой рыцарь» 23 октября, «Моцарт и Сальери» 26 октября, «Каменный Гость» 4 ноября, он должен был начать «Домик в Коломне» числа 3-го или даже 4-го. Следовательно «Домик в Коломне писался приблизительно с 4 по 10 октября.
За десять дней, с 1 по 10 октября, Пушкин написал, – по крайней мере, насколько мы достоверно знаем, – кроме «Домика в Коломне», еще 4 стихотворения. Они датированы так: 1 октября, в день возвращения от кн. Голицыной, – цитированное выше стихотворение «Шалость»; 5-го – «Расставание», 7-го – «Паж или 15-летний король», 9-го – «Я здесь, Инезилья», наконец, 5-го – 10-го «Домик в Коломне». Значит, последние три стихотворения писаны в промежутки «Домика в Коломне». Из них одно – жгучее воспоминание о какой-то женщине, прежде страстно любимой и любимой еще до сих пор, – «Расставание»:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Остальные два (как и написанные, вероятно, тоже в Болдине «Пред испанкой благородной» и «Пью за здравие Мери») несомненно были внушены Пушкину его новым, необычно чистым чувством к невесте и добродушной насмешкой над самим собой, тридцатилетним влюбленным, – то есть над своей юношеской влюбленностью и рыцарской верностью[24]. Это совмещение чувств, казалось бы, противоположных, было неслучайно.
В эти Болдинские уединенные месяцы Пушкин переживал весьма сложное настроение. Он был влюблен – но эта влюбленность резко отличалась от его прежних многочисленных увлечений. Наталья Николаевна была для него не только предметом умиленного обожания и предметом страсти: оба эти чувства он и раньше питал к другим женщинам; ново было то, что с любовью к Наталье Николаевне в его уме неразрывно связалась новая для него мечта о счастии. Так он сам многократно определял свое чувство в эту осень. До сих пор он легко, а иногда и трудно, обходился без счастия, теперь ему страстно хотелось его. Почему? – об этом он не спрашивал себя. В нем уже некоторое время властно звучал этот зов, и он подчинялся ему, как бы неоспоримому приказу; подчинялся, так сказать, против своей воли, потому что знал (и писал об этом своим друзьям), что счастье – не для него, что счастье трудно строить, и притом оно в самом себе вмещает рабство. Его страшила предстоящая семейная жизнь, ему до боли жаль было своей золотой независимости, – и все-таки он, как обреченный, шел вперед, куда не хотел: хлопотал о свадьбе, хотя минутами, ослабевая, готов был стремглав убежать назад, воспользоваться каким-нибудь предлогом, чтобы расстроить свадьбу, как справедливо подозревали его друзья. Такой фатализм в отношении собственного духа был ему всегда присущ, но никогда еще внутренний голос не понукал его так настойчиво и никогда разлад между этим как будто сверхличным повелением и личной волею не был в нем так силен, как теперь. Таков был один водоворот его тогдашнего настроения.
А отсюда, с рубежа новой жизни, где он стоял, готовясь перешагнуть, – его «сердечная мысль» невольно влеклась назад, в его прошлое. Там была свобода (стихотворение «Цыганы», будто бы «с английского», август 1830 года), и там сиял незакатно образ той единственно-любимой женщины, чье имя нам неизвестно («Расставание» 5 октября, «Заклинание» 17 октября, «Для берегов отчизны дальной» 27 ноября 1830 г., все три в Болдине); и столько было мучительного и вместе сладкого в этих воспоминаниях, что именно они исторгали из лиры Пушкина в эту осень самые острые, самые жгучие звуки ужаса, боли, нежности, умиления, точно вопли кающегося преступника.
Между тем как эти противоречивые чувства глубоко волновали его дух, – жизнь на поверхности бурлила и строилась самозаконно, и бесчисленными мелкими остриями проникала в душу и больно ранила ее, как будто глубь, клокотавшая темной бурею, волшебно скопляла реальную грозу над головою, и оба волнения скрещивались, взаимно разъяряясь, и совместно творили ад в душе Пушкина.
Уезжая из Москвы, он рассчитывал пробыть в отлучке 25 дней. Теперь этот срок кончился; оставаться дольше в Болдине было для Пушкина во всех отношениях мучительно; главное же – отсрочка лишала его надежды на дальнейшее получение писем от невесты. Она и то писала редко и скупо, а с концом назначенного им трехнедельного срока уже по праву должна была не писать. Надо было во что бы то ни стало возвращаться в Москву, – а вокруг Болдина свирепствовала холера и по пути в Москву уже быстро, один за другим, устраивались карантины, да погода испортилась и дороги стали непроездными. Он решил все-таки выехать 1 октября, хотя знал, что придется пробыть в пути не меньше месяца. Накануне, 30 сентября, он писал невесте: «Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не кончены и я совершенно пал духом. Вы очень добры и обещаете мне задержку в Богородицке не более 6-ти дней. Мне объявили, что устроено 5 карантинов отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести 14 дней; сосчитайте хорошенько и потом представьте себе, в каком я должен быть сквернейшем настроении! К довершению благополучия, начался дождь, с тем, конечно, чтобы не переставать до самого санного пути. Если что может меня утешить, то это – мудрость, с которою устроены дороги отсюда до Москвы: представьте себе, окоп с каждой стороны, без канав, без стока для воды; таким образом, дорога является ящиком, наполненным грязью; зато пешеходы идут весьма удобно по совершенно сухим тропам вдоль окопов и смеются над увязшими экипажами. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров – мы только и видим это». И дальше: «Не смейтесь надо мною, так как я бешусь. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума с ее карантинами, – разве это не самая дрянная штука, какую судьба могла придумать. Мой ангел, только одна ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка»…
В этот самый день, 30 сентября, Пушкин – очевидно, под проливным дождем – поехал за 30 верст к княгине Голицыной, чтобы от нее разузнать о кратчайшем пути, о числе карантинов и пр. На следующий день он вернулся в Болдино – и тут узнал, что холера достигла Москвы и что «жители все оставили город». Последнее сведение несколько успокоило его, но он все-таки хотел ехать. По справкам он узнал – может быть, именно от кн. Голицыной, – что выдаются свидетельства на свободный проезд или, по крайней мере, на сокращенный срок карантина, и послал соответственное прошение в Нижний. Приходилось ждать ответа, без всяких известий из Москвы и без надежды на них. 2 октября, в заметке «Некоторые писатели ввели обыкновение» он писал: «… Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарищей, вздумал я, для препровождения времени, писать возражения», и т. д. «Смею уверить моего читателя… что глупее сего занятия от роду ничего не мог я выдумать».
А тут еще, как снег на голову, свалилось на него извещение, что он назначен окружным инспектором для надзора над карантинами Болдинского округа. Это было новое осложнение: инспектор был прикреплен к месту, – его не выпустили бы из округа (как потом действительно и случилось). Ответ из Нижнего пришел, – он гласил, что свидетельство будет выдано в Лукоянове; но одновременно пришло и новое известие – что въезд и выезд из Москвы запрещены. Эта новость, при неизвестности о месте пребывания Гончаровых, ошеломила Пушкина. Он был уверен, он надеялся, что Гончаровы благоразумно уехали из зараженной Москвы, – зачем же он поедет туда? их там верно нет, а его уже оттуда не выпустят. И вот, он решается ждать в Болдине. Все эти тревоги он пережил как раз в промежуток между 1-м и 10-м октября. 11-го, очевидно, только что приняв это решение, он пишет невесте письмо, тон которого близок к отчаянию. «Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Именем неба молю, дорогая Наталья Николаевна, пишите мне, несмотря на то, что вам не хочется писать. Скажите мне, где вы? Оставили ли вы Москву? нет ли окольного пути, который мог бы меня привести к вашим ногам? Я совсем потерял мужество, и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать», и т. д.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Мудрость Пушкина"
Книги похожие на "Избранное. Мудрость Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Мудрость Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.