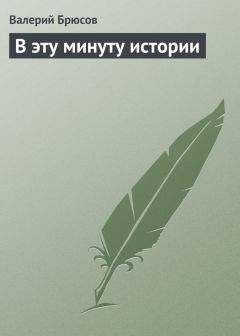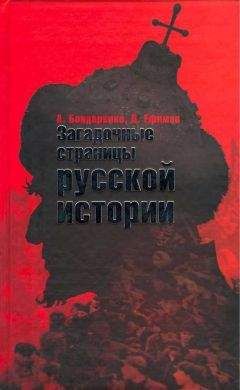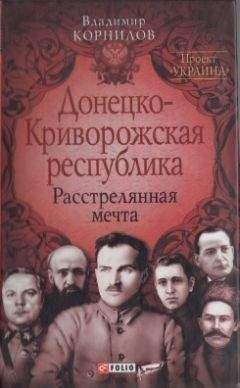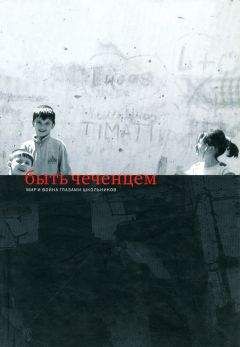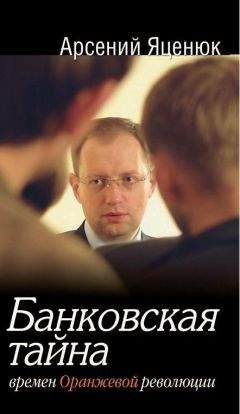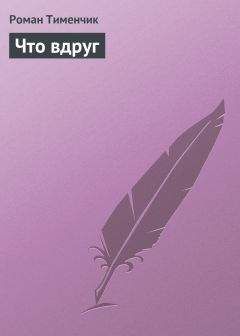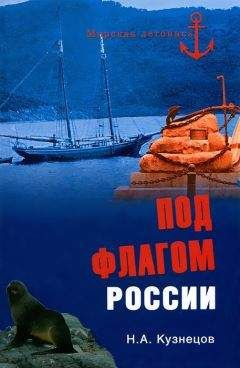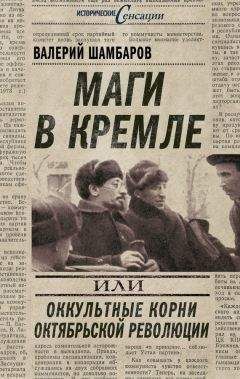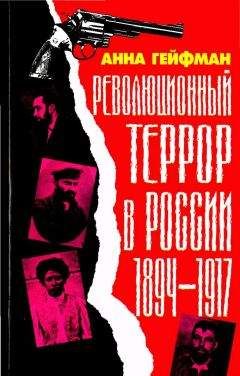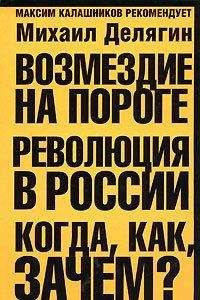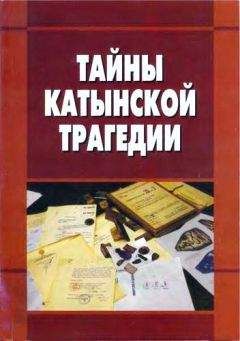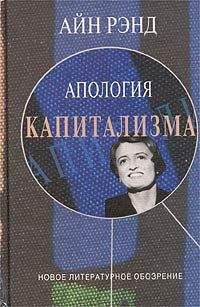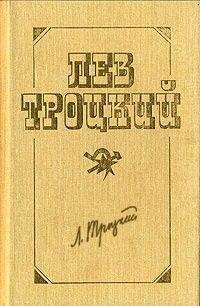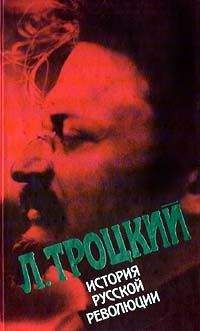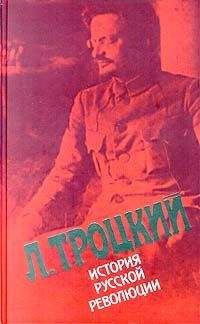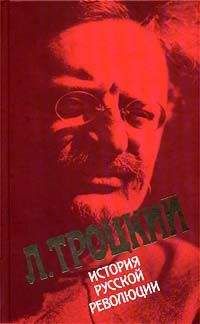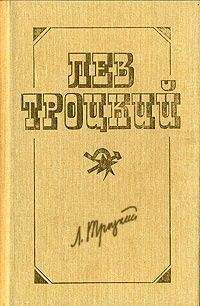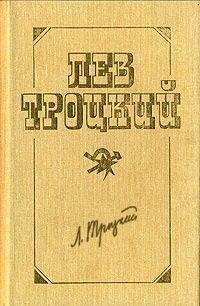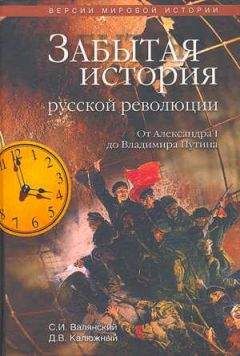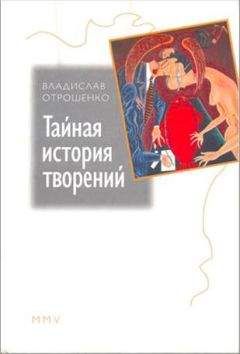Александр Гриценко - Антропология революции
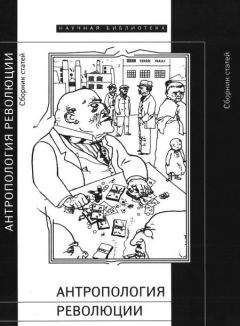
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Антропология революции"
Описание и краткое содержание "Антропология революции" читать бесплатно онлайн.
В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др. Тем не менее их работы, как нам представляется, могут быть рассмотрены с точки зрения некоторых общих методологических ориентиров. Радикальные трансформации, объединяемые под именем революции (политические, научные, эстетические, сексуальные…), исследуются в этой книге как взаимодействие субъектов, активно участвующих в этих событиях, сопротивляющихся или пассивно принимающих новые «правила игры».
Анализ Брюсовой присваивает музыкальному языку миметическую функцию. При этом музыкальный язык подражает не речевой интонации, как более привычно и естественно было бы предполагать, а движениям человеческого тела. Эти «движения», отождествляемые с движением голоса, наделяются оценкой: подъем — позитивен, спад — негативен, остановка или повтор означают «топтание на месте». Так возникает своеобразная «иллюстративная риторика» музыкального языка, практически ничем не связанная с богатейшей многовековой традицией музыкальной риторики. Но возникает она не на пустом месте, а как производная от смысла общеупотребительных речевых выражений. Понятие «музыкальный язык» трактуется у Брюсовой и ее единомышленников буквально: музыкальные фразы приравнены к «словам», а звуки музыкальные являются полной аналогией звуков речи. Исходя из этих постулатов, Брюсова разрабатывает методику обучения музыкальной грамоте, в основе которой лежит разделение на музыкальные «слова» «Интернационала» и «Дальневосточной песни» одного из главных лидеров РАПМа А. Давиденко — сочинений, в чьей идеологической выдержанности сомнений не возникает[630]. Если традиционная музыкальная риторика возникла на основе духовной музыки христианства, то новая музыкальная риторика должна опереться на музыку новой веры.
Жесткое противопоставление двух видов популярных песен, которое было оформлено в результате такой идеологизации, описывает историк советского быта Н. Лебина:
Уже в 1922 г. ЦК РКСМ принял циркуляр, подчеркивающий необходимость организованного разучивания именно революционных песен, так как они могут приблизить молодежь к пониманию задач строительства новой жизни. За исполнение «жестокого романса» комсомолец мог получить выговор как «пропагандист гнилой идеологии»… Особенно активное наступление на «мелкобуржуазную песню» началось в конце 20-х гг. одновременно со свертыванием НЭПа. Идеологический вред был обнаружен в группе новых песен, авторы которых весьма удачно использовали традиции «жестокого городского романса»… Песни, стилизовавшие «городской романс», по мнению идеологических структур, не могли воспитать необходимых новому массовому человеку оптимизма и уверенности. Еще в 1926 г. комсомол сформулировал некое нормализующее суждение, вылившееся в лозунг: «Песня — на службу комсомола». В конце ноября 1926 г. «Комсомольская правда» посвятила этому вопросу целый выпуск. Известный комсомольский поэт А. Безыменский, выступивший на страницах газеты, писал: «Требования на новую песню ощутимы почти физически. Темп современной жизни требует такой песни, которая помогла бы в развитии и сплачивании людей». В 1927 и 1928 гг. вопрос о создании массовой песни обсуждался на специальных заседаниях ЦК ВЛКСМ[631].
7Но, невзирая на ожесточенность борьбы, которая велась против «музыкального дурмана» легкой музыки, именно это направление определило музыкальную атмосферу послереволюционных будней. Как песни, возникшие на основе пародирования уже известных текстов, так и новые сочинения, возникшие в русле легкой музыки в течение 1920-х годов, имели сходные музыкальные источники. Это дореволюционные городские жанры, среди которых лидирует жестокий романс и «блатная песня». Такие шедевры эпохи, как «Кирпичики», «Яблочко», «Гоп со смыком», «Бублички», «С одесского кичмана…», «Цыпленок жареный», — на определенное время фактически вытеснили из музыкального пространства эпохи иные формы, традиционно составлявшие оппозицию «низовым жанрам». Именно «низкие жанры» и стали практическим осуществлением той «музыки революции», о которой грезили поэты и музыканты начала XX века.
Поэтика этой осуществившейся «музыки революции» строится на эффекте приложения иронической или комической музыкально-поэтической интонации к балладному повествованию о судьбе героя с реалистически достоверными драматическими, а порой и трагическими подробностями. Герой ее — принципиально новый персонаж даже в контексте истории легких жанров. Это — вор, грабитель или убийца, в лучшем случае — мелкий жулик или проститутка. Важной его приметой является ореол бунтарства, а порой и революционного прошлого. Не забудем, что в предреволюционные времена радикальные партии могли пополнять свою казну и вполне уголовными методами — за счет «эксов», и что поэтому революционеры-подпольщики и грабители в сознании обывателя отстояли не так уж далеко друг от друга.
Я парень фартовый,
Родился на Подоле,
Меня все знали,
Проходимцем звали.
Хоть бедным родился,
Но скоро нажился.
Буржую в хавиру[632]
Не раз вломился я.
Грабил я кассы,
И других вещей массы…
<…>
Просидел в Сибири
Я четыре года;
Нас освободили
В дни переворота.
Приехал с Сибири
Прямо в Гуляй-Поле;
Убил отца с братом,
А Маньку и надо
Такие ребята.
Ездил на тачанке,
Всегда с пулеметом,
Приставлял всех к стенке,
Грабил всех с охотой.
Из темных закоулков «блатной песни», обращавшейся до сих пор лишь к «профессиональной» аудитории, ее герой довольно энергично вышел на эстрадные подмостки, уверенно обосновавшись там к концу 1920-х годов. Вслед за уже существующими фольклорными образцами, подобно песне «Гоп со смыком»[634], приобретшей в 1928–1929 годах огромную популярность в исполнении Леонида Утесова, появляются новые песни, продолжающие традицию жанра. Зачастую ориентированные на блатные прототипы, но созданные профессиональными авторами, они органично вливаются в блатной фольклор, образуя новый «постфольклор» (по определению С. Ю. Неклюдова) пореволюционной эпохи. Яркий образец его представляет собой песня «С одесского кичмана…» — обработка дореволюционной уголовной песни, написанная для спектакля «Республика на колесах» в 1928 году (стихи Б. Тимофеева, музыка Ф. Кельмана), где ее пел тот же Утесов, игравший главаря шайки бандитов Андрея Дудку (обработка песни «Гоп со смыком» была сделана для того же спектакля).
С одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана в дальний путь.
Под Вяземской малиной[635]
Они остановились.
Они остановились отдохнуть.
Один — герой гражданской,
Махновец партизанский,
Добраться невредимым не сумел.
Он весь в бинтах одетый
И водкой подогретый,
И песенку такую он запел:
<…>
Товарищ, товарищ,
Товарищ малохольный,
За что ж мы проливали нашу кровь?
За крашеные губки,
Коленки ниже юбки,
За эту распроклятую любовь.
<…>
За что же мы боролись,
За что же мы сражались.
За что мы проливали нашу кровь?
Они ведь там пируют,
Они ведь там гуляют,
Они ведь там имеют сыновьев.
<…>
Товарищ, товарищ,
Скажи моей ты маме,
Что сын ее погибнул на войне
С винтовкою в рукою
И с шашкою в другою,
С улыбкою веселой на губе…
Важнейшей для всего этого песенного пласта тематикой является тема произвола. Так, анализируя поэтическую лексику «Цыпленка жареного», филолог-фольклорист С. Ю. Неклюдов акцентирует ее проявления в самых разных фольклорных версиях текста: «поймали / схватили / достали / остановили / скрутили / долго били»; «Но власти строгие, козлы безрогие, / Его поймали, как в силки… / И разорвали на куски… / Не мог им слова возразить…», или «Майор завидел тут его. / Майор завидел / И не обидел — / Он взял свисток и засвистел…»; «Судьей задавленный, он был зажаренный…»; «Цыпленка взял он, / Арестовал он, / И тут же ужин свой он съел». Продемонстрировав различные варианты текста, исследователь приходит к выводу: «…его [героя. — М. Р.] беспомощность, безвинность и полная непричастность к чему-либо являются лейтмотивом песенки»[636].
Тема произвола и мотив безвинности действительно весьма характерны для песен этого типа, но чаще всего они совмещены с криминальным, полным впечатляющих подробностей самоописанием главного героя, от лица которого и ведется «повествование».
Как-то раз по Ланжерону я гулял,
Только порубав на полный ход.
Вдруг ко мне подходят мусора:
«Заплатите, гражданин, за счет!»
Алеша, ша —
Бери полтона ниже,
Брось арапа заправлять — эх-ма!
Не подсаживайся ближе,
Брось Одессу-маму вспоминать!
Вот так попал я на кичу[637]
И здесь теперь салаг учу:
«Сначала научитесь воровать,
А после начинайте напевать».
Ночь надвигается,
Фонарь качается,
И свет врывается
В ночную мглу…
А я, немытая,
Тряпьем покрытая,
Стою, забытая,
Здесь — на углу.
Горячи бублики
Для нашей публики,
Гони-ка рублики,
Народ, скорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.
Здесь, на окраине,
Год при хозяине,
Проклятом Каине,
Я состою.
Все ругань слушаю,
Трясусь вся грушею,
Помои кушаю,
Под лавкой сплю.
<…>
Отец мой пьяница,
Гудит и чванится.
Мать к гробу тянется
Уж с давних пор.
Совсем пропащая,
Дрянь настоящая —
Сестра гулящая,
А братик вор!
<…>
Здесь трачу силы я
На дни постылые,
А мне ведь, милые,
Шестнадцать лет…
Глаза усталые,
А губки алые,
А щеки впалые,
Что маков цвет.
<…>
Твердит мне Сенечка:
«Не хныкай, Женечка…
Пожди маленечко —
Мы в загс пойдем».
И жду я с мукою,
С безмерной скукою…
Пока ж аукаю
Здесь под дождем.
Песня «Бублички» — авторская: «Первоначальный текст песни из 10 строф написан одесским поэтом Яковом Ядовым (настоящее имя — Яков Давыдов. — М. Р.) по просьбе куплетиста Григория Красавина на открытие сезона одесского Театра миниатюр на Ланжероновской улице. По воспоминаниям Красавина, это произошло в 1926 году. Ядов сочинил текст за 30 минут. Мелодия была заимствована Красавиным у приглянувшегося ему популярного фокстрота. В разных источниках автор мелодии указывается как „Г. Богомазов“ или „С. Богомазов“, однако есть мнение, что это был заграничный фокстрот»[638].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Антропология революции"
Книги похожие на "Антропология революции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Гриценко - Антропология революции"
Отзывы читателей о книге "Антропология революции", комментарии и мнения людей о произведении.