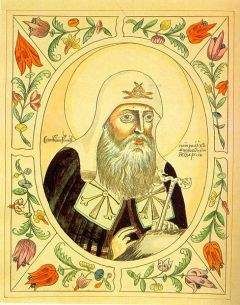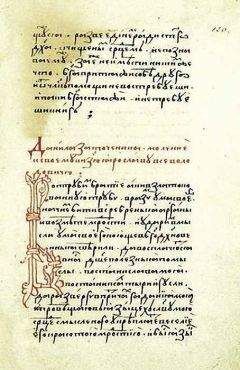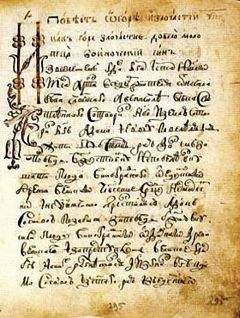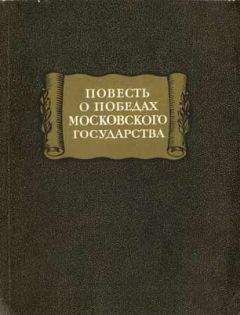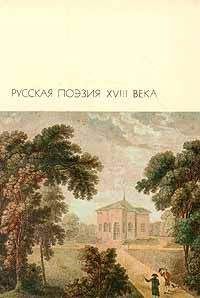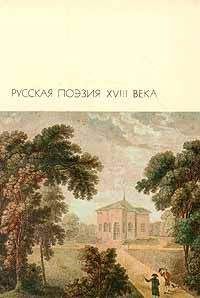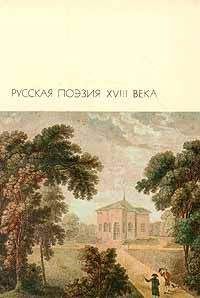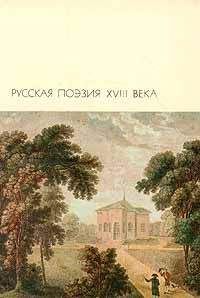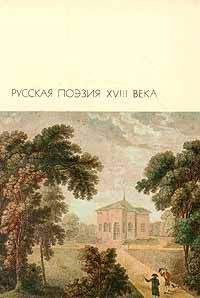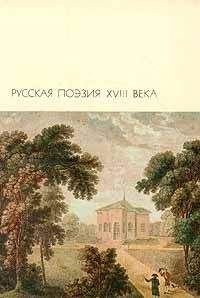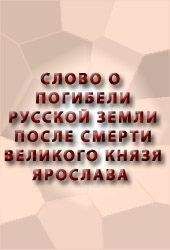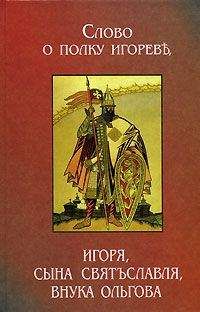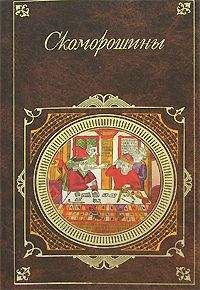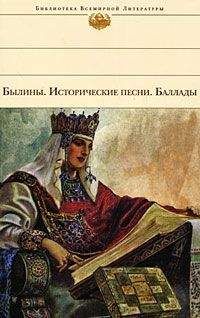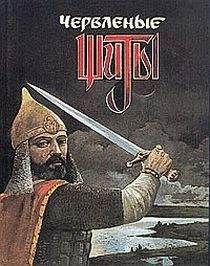Олег Творогов - Литература Древней Руси
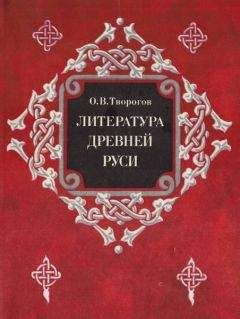
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литература Древней Руси"
Описание и краткое содержание "Литература Древней Руси" читать бесплатно онлайн.
В книге рассмотрены основные закономерности развития древнерусской литературы X-XVII веков, анализируются лучшие произведениярусского средневековья. При анализе каждого памятника раскрывается художественное своеобразие литературы.
По той же схеме построен и рассказ о последней, четвертой мести Ольги: осадив столицу древлян Искоростень, Ольга вдруг объявляет о своей милости: «А уже не хощю мъщати, но хощю дань имать помалу, и смирившися с вами пойду опять (назад)». Дань, которую требует Ольга, действительно, ничтожна: по три голубя и по три воробья со двора. Но когда древляне приносят требуемых птиц, воины Ольги, по приказу княгини, привязывают к каждой из них «церь (трут), обертывающе въ платкы мали, ниткою поверзывающе (привязывая) к коемуждо их». Вечером птиц отпускают на волю, и они несут на лапках зажженный трут в город: «голуби же и врабьеве полетеша в гнезда своя, голуби в голубники (голубятни), врабьеве же под стрехи; и тако възгарахуся голубьници, ово клети, ово веже, ово ли одрины (сараи, сеновалы), и не бе двора, идеже не горяше».
Итак, занимательность сюжета построена на том, что читатель заодно с положительным героем обманывает (зачастую по-средневековому жестоко и коварно) врага, до последнего момента не подозревающего о своей гибельной участи.
Важно и другое: живость, естественность рассказа достигается не только непременным введением в него диалога персонажей, но и детальным, скрупулезным описанием каких-либо деталей, что сразу вызывает у читателя конкретный зрительный образ. Обратим внимание, как подробно рассказывается о способе, каким трут прикреплялся к ногам птиц, как перечисляются различные постройки, которые «возгорешася» от вернувшихся в гнезда и под стрехи (опять конкретная деталь) воробьев и голубей.
Все те же, уже знакомые нам черты эпического предания встречаем мы и в рассказе об осаде печенегами Белгорода, читающемся в «Повести временных лет» под 997 г. В осажденном городе начался голод. Собравшись на вече, горожане решили сдаться на милость врагам: «Въдадимся печенегом, да кого живять, кого ли умертвять; уже бо помираем от глада». Но один из старцев не присутствовал на вече и, узнав о решении народа, предложил свою помощь. По приказу старика было выкопано два колодца, горожане собрали по горстям немного овса, пшеницы и отрубей, раздобыли меда из княжеской медуши (кладовой), и из этих припасов приготовили «цеж», из которого варят кисель, и сыту — напиток из разбавленного водой меда. Все это влили в кадки, установленные в колодцах. Затем в город были приглашены печенежские послы. И горожане сказали им: «Почто губите себе? Коли (когда же) можете престояти нас? Аще стоите за 10 лет, что можете створити нам? Имеем бо кормлю от земле. Аще не веруете, да узрите своима очима». И далее — снова с подробностями — рассказывается, как печенегов привели к колодцам, как черпали из них цеж и сыту, варили кисель и угощали послов. Печенеги поверили в чудо и сняли осаду с города.
Мы рассмотрели лишь некоторые рассказы фольклорного происхождения. К ним относятся также предание о смерти Олега, послужившее основой сюжета для пушкинской «Песни о вещем Олеге», рассказ о юноше-кожемяке, победившем печенежского богатыря, и некоторые другие.
Но в летописи мы встречаем и другие рассказы, сюжетами которых явились те или иные частные факты. Таково, например, сообщение о восстании в Ростовской земле, возглавлявшемся волхвами, рассказ о том, как некий новгородец гадал у кудесника (оба — в статье 1071 г.), описание перенесения мощей Феодосия Печерского (в статье 1091 г.). Подробно повествуется о некоторых исторических событиях, причем это именно рассказы, а не просто подробные сюжетные записи. Д. С. Лихачев, например, обратил внимание на сюжетность летописных «повестей о княжеских преступлениях».[32] В «Повести временных лет» к их числу относится рассказ об ослеплении Василька Теребовльского в статье 1097 г.
Что же отличает подобные рассказы от погодных записей? Прежде всего — организация сюжета. Рассказчик подробно останавливается на отдельных эпизодах, которые приобретают особый смысл для идеи всего повествования. Так, рассказывая об ослеплении Василька Теребовльского — событии, приведшем к длительной междоусобной войне, в которую были втянуты многие русские князья, летописец всеми средствами стремится обличить преступников: киевского князя Святополка Изяславича и волынского князя Давида Игоревича.
Этот эпизод русской истории заключается в следующем. В 1097 г. князья собрались в г. Любече на снем (съезд), где порешили жить в единомыслии («имемся в едино сердце») и строго соблюдать принцип: «кождо да держит отчину свою». Но когда князья стали разъезжаться по своим уделам, свершилось неслыханное доселе (как утверждает летописец) «зло». Бояре оклеветали перед Давыдом Игоревичем (князем Владимира-Волынского) Василька Ростиславича, князя Теребовльского. Они убедили своего сюзерена, что Васильке сговорился с Владимиром Мономахом напасть на него, Давыда, и на киевского князя Святополка. Летописец, правда, объясняет наговор происками дьявола, который, опечаленный только что провозглашенной дружбой князей, «влезе» в сердце «некоторым мужем», но так или иначе Давыд им поверил и убедил в этом же Святополка. Князья уговаривают Василька по пути в родной свой удел задержаться и погостить у них в Киеве. Васильке сначала отказывается, но потом уступает их просьбам.
Летописец нарочито подробно (при обычном лаконизме летописного повествования!), описывает, как развивались дальнейшие события. Вот три князя сидят у Святополка в избе и беседуют. При этом Давыд, сам же убеждавший пленить Василька, не может сдержать волнения: он «седяше акы нем». Когда же Святополк выходит, якобы для того, чтобы распорядиться о завтраке, и Давыд остается с Васильком, то беседа вновь не клеится: «И нача Василко глаголати к Давыдови, и не бе в Давыде гласа, ни послушанья (как бы не мог ни говорить, ни слушать): бе бо ужаслъся (пришел в ужас) и лесть имея в сердци». Давыд не выдерживает и спрашивает слуг: «Кде есть брат?». Они отвечают: «Стоить на сенех». И, встав, Давыд рече: «Аз иду по нь, а ты, брате, поседи». И, встав, иде вон». Едва вышел Давыд, избу заперли, а Василька заковали. Наутро, посовещавшись с киевлянами, Святополк приказывает увезти Василька в городок Белгород под Киевом и там, по совету Давыда, ослепить его. Со всеми подробностями описывается, как княжеские слуги с трудом одолевают могучего и отчаянно сопротивлявшегося князя...
Но вернемся к изложенному выше эпизоду беседы князей. Он примечателен тем, что здесь летописец умело передает не только действия (их-то почти и нет), а именно душевное состояние заговорщиков, и особенно Давыда Игоревича. Этот психологизм, в общем весьма редкий для древнерусской литературы старшего периода, говорит и о больших художественных возможностях, и о литературном умении древнерусских книжников; возможности эти и это умение давали о себе знать, как только для того представлялся достаточный повод, когда нужно было создать определенное отношение читателя к описываемому. В этом случае летописец отступал от традиции, от канона, от обычного бесстрастного, этикетного изображения действительности, которое в целом присуще летописному повествованию.
Именно в «Повести временных лет», как ни в какой другой летописи, часты сюжетные рассказы (мы не говорим о вставных повестях в летописях XV-XVI вв.). Если брать летописание XI-XVI вв. в целом, то для летописи как жанра характернее определенный литературный принцип, выработанный уже в XI-XIII вв. и получивший у исследовавшего его Д. С. Лихачева название «стиля монументального историзма».[33]
Монументальный историзм пронизывает всю культуру Киевской Руси; его отражение в литературе, а еще более узко — в летописании является только частным, конкретным его воплощением.
По представлениям летописцев, история — это книга человеческого бытия, в значительной степени уже написанная заранее, предначертанная божественным промыслом. Вечна в мире борьба добра и зла, вечной оказывается и ситуация, когда народ пренебрегает своими обязанностями перед богом, нарушает его «заветы» и бог наказывает непокорных — мором, голодом, «нахожением иноплеменников» или даже полной гибелью государства и «расточением» народа. Поэтому летопись вся полна аналогиями, широкими историческими перспективами, событийная канва предстает в ней лишь как частные проявления упомянутых «вечных» коллизий. Поэтому в летописи говорится о главных героях этой исторической мистерии — царях, князьях, воеводах и о главных, отвечающих их положению в обществе функциях. Князь изображается по преимуществу в самые центральные моменты своей деятельности — при вступлении на престол, во время битв или дипломатических акций; смерть князя — своеобразный итог его деятельности, и летописец стремится выразить этот итог в церемониальном посмертном некрологе, в котором перечисляются доблести и славные деяния князя, при этом именно те его добродетели, которые приличествуют ему как князю и христианину. Церемониальность изображения требует соблюдения этикета словесного выражения. Нарисованная здесь картина — идеал, своего рода идеологическое и эстетическое кредо древнерусских авторов. Мы видели при анализе «Повести временных лет», что летописец зачастую (и именно в «Повести временных лет» в отличие от последующих летописных сводов) переступает это кредо, то давая дорогу сюжетам исторических преданий, то предлагая занимательные рассказы очевидцев, то сосредоточиваясь на изображении отдельных, наиболее значительных исторических эпизодов. В этих случаях церемониальность также отступала перед напором действительности, как мы видели это в рассказе об ослеплении Василька Теребовльского.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литература Древней Руси"
Книги похожие на "Литература Древней Руси" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Олег Творогов - Литература Древней Руси"
Отзывы читателей о книге "Литература Древней Руси", комментарии и мнения людей о произведении.