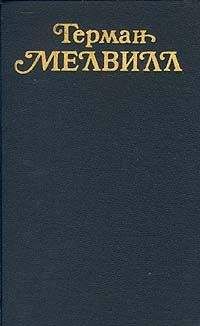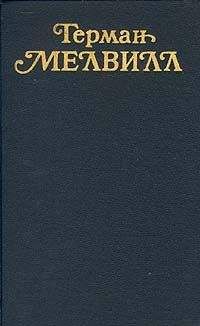Герман Мелвилл - Моби Дик - английский и русский параллельные тексты
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Моби Дик - английский и русский параллельные тексты"
Описание и краткое содержание "Моби Дик - английский и русский параллельные тексты" читать бесплатно онлайн.
«Моби Дик, или Белый кит» (англ. Moby-Dick, or The Whale, 1851) — основная работа Германа Мелвилла, итоговое произведение литературы американского романтизма. Длинный роман с многочисленными лирическими отступлениями, проникнутый библейской образностью и многослойным символизмом, не был понят и принят современниками. Переоткрытие «Моби Дика» произошло в 1920-е годы.
Роман посвящён американскому писателю-романтику Натаниэлю Готорну, близкому другу автора, «в знак преклонения перед его гением».
Though in many natural objects, whiteness refiningly enhances beauty, as if imparting some special virtue of its own, as in marbles, japonicas, and pearls; and though various nations have in some way recognised a certain royal preeminence in this hue; even the barbaric, grand old kings of Pegu placing the title
Хотя в природе белизна часто умножает и
облагораживает красоту, словно одаряя ее своими собственными особыми достоинствами, как мы это видим на примере мрамора, японских камелий и жемчуга; и хотя многие народы так или иначе отдают должное
царственному превосходству этого цвета, ведь даже древние варварские короли великого Пегу помещали титул
"Lord of the White Elephants" above all their other magniloquent ascriptions of dominion; and the modern kings of Siam unfurling the same snow-white quadruped in the royal standard; and the Hanoverian flag bearing the one figure of a snow-white charger; and the great Austrian Empire, Caesarian, heir to overlording Rome, having for the imperial colour the same imperial hue; and though this pre-eminence in it applies to the human race itself, giving the white man ideal mastership over every dusky tribe; and though, besides, all this, whiteness has been even made significant of gladness, for among the Romans a white stone marked a joyful day; and though in other mortal sympathies and symbolizings, this same hue is made the emblem of many touching, noble things-the innocence of brides, the benignity of age; though among the Red Men of America the giving of the white belt of wampum was the deepest pledge of honour; though in many climes, whiteness typifies the majesty of Justice in the ermine of the Judge, and contributes to the daily state of kings and queens drawn by milk-white steeds; though even in the higher mysteries of the most august religions it has been made the symbol of the divine spotlessness and power; by the Persian fire worshippers, the white forked flame being held the holiest on the altar; and in the Greek mythologies, Great Jove himself being made incarnate in a snow-white bull; and though to the noble Iroquois, the midwinter sacrifice of the sacred White Dog was by far the holiest festival of their theology, that spotless, faithful creature being held the purest envoy they could send to the Great Spirit with the annual tidings of their own fidelity; and though directly from the Latin word for white, all Christian priests derive the name of one part of their sacred vesture, the alb or tunic, worn beneath the cassock; and though among the holy pomps of the Romish faith, white is specially employed in the celebration of the Passion of our Lord; though in the Vision of St. John, white robes are given to the redeemed, and the four-and-twenty elders stand clothed in white before the great-white throne, and the Holy One that sitteth there white like wool; yet for all these accumulated associations, with whatever is sweet, and honourable, and sublime, there yet lurks an elusive something in the innermost idea of this hue, which strikes more of panic to the soul than that redness which affrights in blood.
"Владыки Белых Слонов" над всеми прочими велеречивыми описаниями своего могущества, а у современных королей Сиама это же белоснежное четвероногое запечатлено на королевском штандарте, а на Ганноверском знамени имеется изображение белоснежного скакуна, в то время как и великая Австрийская империя, наследница всевластного Рима, избрала для своего имперского знамени все тот же величественный цвет; и хотя, помимо всего, белый цвет был признан даже цветом радости, ибо у римлян белым камнем отмечались праздничные дни; и хотя по всем остальным человеческим понятиям и ассоциациям белизна символизирует множество трогательных и благородных вещей - невинность невест и мягкосердие старости; хотя у краснокожих в Америке пожалование белого пояса-вампума считалось величайшей честью; хотя во многих странах белый цвет горностая в судейском облачении является эмблемой правосудия и он же в виде молочно-белого коня поддерживает в каждодневности величие королей и королев; хотя в высочайших таинствах возвышеннейших религий белый цвет всегда считался символом божественной
непорочности и силы - у персидских огнепоклонников белое раздвоенное пламя на алтаре почиталось превыше всего, а в греческой мифологии сам великий Зевс принимал образ белоснежного быка; и хотя у благородных ирокезов принесение в жертву священной Белой Собаки в разгар зимы рассматривалось, согласно их теологии, как самый торжественный праздник, а это белейшее, преданнейшее существо считалось наиболее достойным посланцем для встречи с Великим Духом, которому они ежегодно посылали донесения о своей неизменной преданности; и хотя христианские священники позаимствовали латинское слово "albus" - белый для обозначения стихаря - некоторой части своего священного облачения, надеваемой под рясу; хотя среди божественного великолепия римской церкви белый цвет особенно часто используется при прославлении страстей господних; хотя в Откровении Святого Иоанна праведники наделены белыми одеждами и двадцать четыре старца, облаченные в белое, стоят перед великим белым престолом, на котором восседает Владыка Святый и Истинный, белый, как белая волна, как снег, - все-таки, несмотря на эти совокупные ассоциации со всем что ни на есть хорошего, возвышенного и благородного, в самой идее белизны таится нечто неуловимое, но более жуткое, чем в зловещем красном цвете крови.
This elusive quality it is, which causes the thought of whiteness, when divorced from more kindly associations, and coupled with any object terrible in itself, to heighten that terror to the furthest bounds. Именно из-за этого неуловимого свойства белизна, лишенная перечисленных приятных ассоциаций и соотнесенная с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Witness the white bear of the poles, and the white shark of the tropics; what but their smooth, flaky whiteness makes them the transcendent horrors they are? Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если не ровный белоснежный цвет, делает их столь непередаваемо страшными? That ghastly whiteness it is which imparts such an abhorrent mildness, even more loathsome than terrific, to the dumb gloating of their aspect. Мертвенная белизна придает торжествующе-плотоядному облику этих бессловесных тварей ту омерзительную вкрадчивость, которая вызывает еще больше отвращения, чем ужаса. So that not the fierce-fanged tiger in his heraldic coat can so stagger courage as the white-shrouded bear or shark.* *With reference to the Polar bear, it may possibly be urged by him who would fain go still deeper into this matter, that it is not the whiteness, separately regarded, which heightens the intolerable hideousness of that brute; for, analysed, that heightened hideousness, it might be said, only rises from the circumstance, that the irresponsible ferociousness of the creature stands invested in the fleece of celestial innocence and love; and hence, by bringing together two such opposite emotions in our minds, the Polar bear frightens us with so unnatural a contrast. Вот почему даже свирепозубый тигр в своем геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула в белоснежных покровах(1).---------------- (1) Быть может, читатель,специально углубившийся в этот предмет, станет утверждать, что источником сверхъестественного ужаса, внушаемого полярным медведем, служит не белизна как таковая, а то обстоятельство, что безмерная свирепость этого зверя выступает в одежде невинности и любви и что именно благодаря такому дикому контрасту двух одновременных противоположных ощущений и внушает нам полярный медведь столь великий страх. But even assuming all this to be true; yet, were it not for the whiteness, you would not have that intensified terror. Но даже если все это и так, все равно, не было бы белизны, не было бы и страха. As for the white shark, the white gliding ghostliness of repose in that creature, when beheld in his ordinary moods, strangely tallies with the same quality in the Polar quadruped. Что же до белой акулы, то мертвенная белизна покоя, присущая этому созданию в обычных условиях, удивительно соответствует описанным свойствам полярного четвероногого. This peculiarity is most vividly hit by the French in the name they bestow upon that fish. Это обстоятельство очень точно отражено во французском названии акулы. The Romish mass for the dead begins with "Requiem eternam" (eternal rest), whence REQUIEM denominating the mass itself, and any other funeral music. Католическая заупокойная служба начинается словами Requiem aeternam (вечный покой), вследствие чего и вся месса и похоронная музыка стали также называться Requiem. Now, in allusion to the white, silent stillness of death in this shark, and the mild deadliness of his habits, the French call him REQUIN. Так вот, из-за белой немой неподвижности смерти, характерной для акулы, и из-за вкрадчивой убийственности ее повадок французы зовут ее Requin. - Примеч. автора. Bethink thee of the albatross, whence come those clouds of spiritual wonderment and pale dread, in which that white phantom sails in all imaginations? Или вот альбатрос - откуда берутся все тучи душевного недоумения и бледного ужаса, среди которых парит этот белый призрак в представлении каждого? Not Coleridge first threw that spell; but God's great, unflattering laureate, Nature.* Не Кольридж первым сотворил эти чары, это сделал божий великий и нельстивый поэт-лауреат по имени Природа(1). *I remember the first albatross I ever saw. (1) Помню, как я впервые увидел альбатроса. It was during a prolonged gale, in waters hard upon the Antarctic seas. Это было в водах Антарктики во время долгого, свирепого шторма. From my forenoon watch below, I ascended to the overclouded deck; and there, dashed upon the main hatches, I saw a regal, feathery thing of unspotted whiteness, and with a hooked, Roman bill sublime. Отстояв вахту внизу, я поднялся на одетую тучами палубу и здесь на крышке люка увидел царственное пернатое существо, белое, как снег, с крючковатым клювом совершенной римской формы. At intervals, it arched forth its vast archangel wings, as if to embrace some holy ark. Время от времени оно выгибало свои огромные архангельские крылья, словно для того, чтобы заключить в объятия святой ковчег. Wondrous flutterings and throbbings shook it. Тело его чудесным образом трепетало и содрогалось. Though bodily unharmed, it uttered cries, as some king's ghost in supernatural distress. Птица была невредима, но она издавала короткие крики, подобно призраку короля, охваченного сверхъестественной скорбью. Through its inexpressible, strange eyes, methought I peeped to secrets which took hold of God. А в глазах ее, ничего не выражавших и странных, я видел, чудилось мне, тайну власти над самим богом. As Abraham before the angels, I bowed myself; the white thing was so white, its wings so wide, and in those for ever exiled waters, I had lost the miserable warping memories of traditions and of towns. И я склонился, как Авраам пред ангелами, - так бело было это белое существо, так широк был размах его крыльев, что тогда, в этих водах вечного изгнания, я вдруг утратил жалкую, унизительную память о цивилизациях и городах. Long I gazed at that prodigy of plumage. Долго любовался я этим пернатым чудом. I cannot tell, can only hint, the things that darted through me then. И как бы я мог передать те мысли, что проносились тогда у меня в голове? But at last I awoke; and turning, asked a sailor what bird was this. Наконец я очнулся и спросил у одного матроса, что это за птица. A goney, he replied. "Гоуни", - ответил он мне. Goney! never had heard that name before; is it conceivable that this glorious thing is utterly unknown to men ashore! never! Гоуни! Я никогда прежде не слышал такого имени: возможно ли, чтобы люди на берегу не знали о существовании этого сказочного создания? Невероятно! But some time after, I learned that goney was some seaman's name for albatross. So that by no possibility could Coleridge's wild Rhyme have had aught to do with those mystical impressions which were mine, when I saw that bird upon our deck. И только потом я узнал, что так моряки иногда называют альбатросов Так что мистический трепет, который я испытал, впервые увидев на палубе альбатроса, ни в какой мере не связан со страстными стихами Кольриджа. For neither had I then read the Rhyme, nor knew the bird to be an albatross. Yet, in saying this, I do but indirectly burnish a little brighter the noble merit of the poem and the poet. Ибо я и стихов этих тогда еще не читал, да и не знал, что передо мной альбатрос Но косвенно мой рассказ лишь умножает славу поэта и его творения. I assert, then, that in the wondrous bodily whiteness of the bird chiefly lurks the secret of the spell; a truth the more evinced in this, that by a solecism of terms there are birds called grey albatrosses; and these I have frequently seen, but never with such emotions as when I beheld the Antarctic fowl. Я утверждаю, что все мистическое очарование этой птицы порождено чудесной ее белизной, и в доказательство приведу так называемых "серых альбатросов" - результат какой-то терминологической путаницы; этих птиц я встречал часто, но никогда не испытывал при виде их тех ощущений, какие вызвал во мне наш антарктический гость. But how had the mystic thing been caught? Но как, однако, было поймано это сказочное существо? Whisper it not, and I will tell; with a treacherous hook and line, as the fowl floated on the sea. Поклянитесь сохранить тайну, и я скажу вам: при помощи предательского крючка и лески удалось изловить эту птицу, когда она плыла, покачиваясь, по волнам. At last the Captain made a postman of it; tying a lettered, leathern tally round its neck, with the ship's time and place; and then letting it escape. Впоследствии капитан сделал ее почтальоном: он привязал к ее шее кожаную полоску, на которой значилось название судна и его местонахождение, и отпустил птицу на волю. But I doubt not, that leathern tally, meant for man, was taken off in Heaven, when the white fowl flew to join the wing-folding, the invoking, and adoring cherubim! Но я-то знаю, что кожаная полоска, предназначенная для человека, была доставлена прямо на небеса, куда вознеслась белая птица навстречу призывно распростершим крыла восторженным херувимам. - Примеч. автора. Most famous in our Western annals and Indian traditions is that of the White Steed of the Prairies; a magnificent milk-white charger, large-eyed, small-headed, bluff-chested, and with the dignity of a thousand monarchs in his lofty, overscorning carriage. У нас на Дальнем Западе особой известностью пользуются индейские сказания о Белом Коне Прерий - о великолепном молочно-белом скакуне с огромными глазами, маленькой головкой, крутой грудью и с величавостью тысяч монархов в надменной, царственной осанке. He was the elected Xerxes of vast herds of wild horses, whose pastures in those days were only fenced by the Rocky Mountains and the Alleghanies. Он был единовластным Ксерксом необозримых диких табунов, чьи пастбища в те дни были ограждены лишь Скалистыми горами да Аллеганским кряжем. At their flaming head he westward trooped it like that chosen star which every evening leads on the hosts of light. И во главе их огнедышащих полчищ несся он на Запад, подобный избранной звезде, ведущей за собой ежевечерний хоровод светил. The flashing cascade of his mane, the curving comet of his tail, invested him with housings more resplendent than gold and silver-beaters could have furnished him. Взвихренный каскад его гривы, изогнутая комета хвоста были его сбруей, роскошней которой никакие чеканщики по золоту не могли бы ему поднести. A most imperial and archangelical apparition of that unfallen, western world, which to the eyes of the old trappers and hunters revived the glories of those primeval times when Adam walked majestic as a god, bluff-browed and fearless as this mighty steed. То было царственное, небесное видение девственного западного мира, воскрешавшего некогда пред глазами зверобоев те славные первобытные времена, когда Адам ходил по земле, величавый, как бог, крутолобый и бесстрашный, как этот дикий скакун. Whether marching amid his aides and marshals in the van of countless cohorts that endlessly streamed it over the plains, like an Ohio; or whether with his circumambient subjects browsing all around at the horizon, the White Steed gallopingly reviewed them with warm nostrils reddening through his cool milkiness; in whatever aspect he presented himself, always to the bravest Indians he was the object of trembling reverence and awe. Шествовал ли царь коней, окруженный адъютантами и маршалами в авангарде бесчисленных когорт, что лились, подобно реке Огайо, нескончаемым потоком по равнине, или, поводя теплыми ноздрями, краснеющими на фоне холодной белизны, осматривал на скаку своих подданных, растянувшихся по прерии куда ни глянь до самого горизонта, - в каком бы обличии ни предстал он пред ними, все равно для храбрых индейцев он неизменно оставался объектом трепетного поклонения и страха. Nor can it be questioned from what stands on legendary record of this noble horse, that it was his spiritual whiteness chiefly, which so clothed him with divineness; and that this divineness had that in it which, though commanding worship, at the same time enforced a certain nameless terror. И если судить по тому, что гласят легенды об этом царственном коне, то истоком всей его божественности, вне всякого сомнения, служила только его призрачная белизна, и божественность эта, вызывая поклонение, одновременно внушала какой-то необъяснимый ужас. But there are other instances where this whiteness loses all that accessory and strange glory which invests it in the White Steed and Albatross. Однако можно привести и такие примеры, когда белизна выступает совершенно лишенной того таинственного и привлекательного сияния, каким окружены Белый Конь и Альбатрос. What is it that in the Albino man so peculiarly repels and often shocks the eye, as that sometimes he is loathed by his own kith and kin! Что так отталкивает нас во внешности альбиноса и делает его порой отвратительным -даже в глазах собственных родных и близких? It is that whiteness which invests him, a thing expressed by the name he bears. Сама та белизна, которая облачает его и дарит ему имя. The Albino is as well made as other men-has no substantive deformity-and yet this mere aspect of all-pervading whiteness makes him more strangely hideous than the ugliest abortion. Альбинос сложен ничуть не хуже всякого - в нем не заметно никакого уродства - и тем не менее эта всепроникающая белизна делает его омерзительнее самого чудовищного выродка. Why should this be so? Почему бы это? Nor, in quite other aspects, does Nature in her least palpable but not the less malicious agencies, fail to enlist among her forces this crowning attribute of the terrible. Да и сама Природа, уже совсем в ином виде, в своих наименее уловимых, но от этого отнюдь не менее зловредных проявлениях, не пренебрегает услугами этого довершающего признака, свойственного всему ужасному. From its snowy aspect, the gauntleted ghost of the Southern Seas has been denominated the White Squall. Закованный в латы демон Южных морей получил благодаря своему льдистому облику имя Белый Шквал. Nor, in some historic instances, has the art of human malice omitted so potent an auxiliary. И человеческое коварство, как показывают нам примеры из истории, не гнушалось в своих ухищрениях столь могущественным вспомогательным средством. How wildly it heightens the effect of that passage in Froissart, when, masked in the snowy symbol of their faction, the desperate White Hoods of Ghent murder their bailiff in the market-place! Насколько возрастает впечатление от той сцены из Фруассара, где Белые Капюшоны Гента, скрывая лица под снежными эмблемами своей клики, закалывают графского управляющего на рыночной площади! Nor, in some things, does the common, hereditary experience of all mankind fail to bear witness to the supernaturalism of this hue. Да и сам обыденный многовековый опыт человечества тоже говорит о сверхъестественных свойствах этого цвета. It cannot well be doubted, that the one visible quality in the aspect of the dead which most appals the gazer, is the marble pallor lingering there; as if indeed that pallor were as much like the badge of consternation in the other world, as of mortal trepidation here. Ничто не внушает нам при взгляде на покойника такого ужаса, как его мраморная бледность; будто бледность эта знаменует собой и потустороннее оцепенение загробного мира, и смертный земной страх. And from that pallor of the dead, we borrow the expressive hue of the shroud in which we wrap them. У смертельной бледности усопших заимствуем мы цвет покровов, которыми окутываем мы их. Nor even in our superstitions do we fail to throw the same snowy mantle round our phantoms; all ghosts rising in a milk-white fog-Yea, while these terrors seize us, let us add, that even the king of terrors, when personified by the evangelist, rides on his pallid horse. И в самых своих суевериях мы не преминули набросить белоснежную мантию на каждый призрак, который возникает перед человеком, поднявшись из молочно-белого тумана. Да что там перечислять! Вспомним лучше, пока от этих ужасов мороз по коже подирает, что у самого царя ужасов, описанного евангелистом, под седлом - конь блед. Therefore, in his other moods, symbolize whatever grand or gracious thing he will by whiteness, no man can deny that in its profoundest idealized significance it calls up a peculiar apparition to the soul. Итак, какие бы возвышенные и добрые идеи ни связывал с белизной человек в определенном настроении ума, все равно никто не сможет отрицать того, что в своем глубочайшем, чистом виде белизна порождает в человеческой душе самые необычайные видения. But though without dissent this point be fixed, how is mortal man to account for it? Но даже если этот факт и не вызывает сомнений, как можем мы, смертные, объяснить его? To analyse it, would seem impossible. Анализировать его не представляется возможным. Can we, then, by the citation of some of those instances wherein this thing of whiteness-though for the time either wholly or in great part stripped of all direct associations calculated to impart to it aught fearful, but nevertheless, is found to exert over us the same sorcery, however modified;-can we thus hope to light upon some chance clue to conduct us to the hidden cause we seek? Нельзя ли в таком случае, приведя здесь несколько примеров того, как белизна -совершенно или частично лишенная каких бы то ни было прямых устрашающих ассоциаций -тем не менее оказывает на нас в конечном счете все то же колдовское воздействие, нельзя ли надеяться этим путем напасть ненароком на ключ к секрету, который мы стремимся разгадать? Let us try. Попытаемся же. But in a matter like this, subtlety appeals to subtlety, and without imagination no man can follow another into these halls. Но в подобных вопросах тонкость рассуждения рассчитана на тонкость понимания, и человек, лишенный фантазии, не сумеет последовать за мной по этим чертогам. And though, doubtless, some at least of the imaginative impressions about to be presented may have been shared by most men, yet few perhaps were entirely conscious of them at the time, and therefore may not be able to recall them now. И хоть некоторые по крайней мере из тех фантастических впечатлений, о которых здесь пойдет речь, несомненно, были испытаны и другими людьми, мало кто, наверное, отдавал себе в них отчет, и не все поэтому смогут их припомнить. Why to the man of untutored ideality, who happens to be but loosely acquainted with the peculiar character of the day, does the bare mention of Whitsuntide marshal in the fancy such long, dreary, speechless processions of slow-pacing pilgrims, down-cast and hooded with new-fallen snow? Почему, например, у человека, не получившего глубокого религиозного образования и весьма мало осведомленного относительно своеобразия церковных праздников, простое упоминание о Троицыном дне, который называется у нас Белое Воскресенье, порождает в воображении длинную унылую и безмолвную процессию пилигримов, медленно бредущих, уставя очи долу, и густо запорошенных свежевыпавшим снегом? Or, to the unread, unsophisticated Protestant of the Middle American States, why does the passing mention of a White Friar or a White Nun, evoke such an eyeless statue in the soul? Почему также в душе темного и невинного протестанта в центральных штатах даже беглое упоминание о Белых Братьях или Белой Монахине вызывает видение некоей безглазой статуи? Or what is there apart from the traditions of dungeoned warriors and kings (which will not wholly account for it) that makes the White Tower of London tell so much more strongly on the imagination of an untravelled American, than those other storied structures, its neighbors-the By ward Tower, or even the Bloody? Чем - помимо древних сказаний о заточении рыцарей и королей, которые, однако, не дают нам исчерпывающего ответа, - чем можно объяснить то удивительное свойство Белой башни лондонского Тауэра воздействовать на воображение приезжих простаков-американцев сильнее, чем соседние многоэтажные постройки, - Боковая башня, и даже Кровавая? And those sublimer towers, the White Mountains of New Hampshire, whence, in peculiar moods, comes that gigantic ghostliness over the soul at the bare mention of that name, while the thought of Virginia's Blue Ridge is full of a soft, dewy, distant dreaminess? А башни еще более возвышенные, Белые горы Нью-Гэмпшира, отчего при упоминании о них нисходит порой в душу ощущение грандиозной призрачности, в то время как мысли о Голубом кряже Виргинии исполнены столь мягкой, росистой, поэтической мечтательности? Or why, irrespective of all latitudes and longitudes, does the name of the White Sea exert such a spectralness over the fancy, while that of the Yellow Sea lulls us with mortal thoughts of long lacquered mild afternoons on the waves, followed by the gaudiest and yet sleepiest of sunsets? Почему, невзирая на долготы и широты, Белое море оказывает на наши души такое потустороннее влияние, тогда как Желтое море убаюкивает нас земными представлениями о длинных и приятных вечерах на лакированных волнах и наступающих к их исходу цветистых и сонных закатах? Or, to choose a wholly unsubstantial instance, purely addressed to the fancy, why, in reading the old fairy tales of Central Europe, does "the tall pale man" of the Hartz forests, whose changeless pallor unrustlingly glides through the green of the groves-why is this phantom more terrible than all the whooping imps of the Blocksburg? Или же, если обратиться к примерам уже совсем не материальным, рассчитанным исключительно на людское воображение, почему при чтении старинных сказок Центральной Европы образ "высокого бледного человека" в лесах Гарца, чей бескровный лик бесшумно скользит среди зеленых рощ, почему этот белый призрак внушает больше страха, чем вся завывающая нечисть Блоксберга? Nor is it, altogether, the remembrance of her cathedral-toppling earthquakes; nor the stampedoes of her frantic seas; nor the tearlessness of arid skies that never rain; nor the sight of her wide field of leaning spires, wrenched cope-stones, and crosses all adroop (like canted yards of anchored fleets); and her suburban avenues of house-walls lying over upon each other, as a tossed pack of cards;-it is not these things alone which make tearless Lima, the strangest, saddest city thou can'st see. И нельзя сказать, что только память о рушащих соборы землетрясениях; или неудержимые набеги бушующего моря; или бесслезная засушливость небес, из которых никогда не падают дожди; или вид самого города - целого поля покосившихся шпилей, вывернутых каменных плит и поникших крестов, будто на кладбище кораблей; или его пригороды, где стены домов громоздятся одна над другой, словно раскиданная колода карт, - нельзя сказать, что, мол, вот они все причины, делающие Лиму самым странным и самым печальным городом в мире. For Lima has taken the white veil; and there is a higher horror in this whiteness of her woe. Ибо Лима, подобно монахине, скрыла лицо свое под белой вуалью, и в белизне ее скорби таится нечто возвышенное и жуткое. Old as Pizarro, this whiteness keeps her ruins for ever new; admits not the cheerful greenness of complete decay; spreads over her broken ramparts the rigid pallor of an apoplexy that fixes its own distortions. Древняя, как Писарро, эта белоснежность придает вечную новизну ее руинам; она не допускает жизнерадостной зелени окончательного распада и простирает над развалинами укреплений недвижную бледность апоплексии, застывшей в своей гримасе. I know that, to the common apprehension, this phenomenon of whiteness is not confessed to be the prime agent in exaggerating the terror of objects otherwise terrible; nor to the unimaginative mind is there aught of terror in those appearances whose awfulness to another mind almost solely consists in this one phenomenon, especially when exhibited under any form at all approaching to muteness or universality. Я знаю, что во всеобщем мнении белизна отнюдь не считается первопричиной ужаса, внушаемого явлениями, которые ужасны сами по себе; и точно так же для лишенных воображения людей в явлениях, которые внушают иным страх исключительно своей белизной, попросту нет ничего страшного, в особенности если белизна выступает в форме немой и всеохватывающей. What I mean by these two statements may perhaps be respectively elucidated by the following examples. Я хотел бы привести примеры, долженствующие разъяснить обе эти мои мысли. First: The mariner, when drawing nigh the coasts of foreign lands, if by night he hear the roar of breakers, starts to vigilance, and feels just enough of trepidation to sharpen all his faculties; but under precisely similar circumstances, let him be called from his hammock to view his ship sailing through a midnight sea of milky whiteness-as if from encircling headlands shoals of combed white bears were swimming round him, then he feels a silent, superstitious dread; the shrouded phantom of the whitened waters is horrible to him as a real ghost; in vain the lead assures him he is still off soundings; heart and helm they both go down; he never rests till blue water is under him again. Во-первых. Мореплаватель, который, приблизившись к незнакомому берегу, услышит ночью рев прибоя, пробуждается ото сна, весь настороженность и внимание, и ощущает страх ровно настолько, чтобы все его способности лишь обострились; но если при совершенно сходных обстоятельствах он по свистку поднимается с койки и видит, что их судно плывет среди ночи по молочно-белым водам - словно это не пенные гребешки, а целые стада белых медведей подплыли сюда с близлежащих мысов, - вот тогда испытывает он немой и сверхъестественный ужас; призрачная пелена пенного моря страшит его, как подлинное привидение; напрасно убеждает его лот, что дно еще не промеривается; все равно, сердце у него уходит в пятки и остается там до тех пор, покуда под килем корабля вновь не забурлит синяя волна. Yet where is the mariner who will tell thee, А между тем какой мореплаватель признается вам: "Sir, it was not so much the fear of striking hidden rocks, as the fear of that hideous whiteness that so stirred me?" "Сэр, я не так перетрусил, что мы наскочим на подводные рифы, как испугался этой жуткой белизны"? Second: To the native Indian of Peru, the continual sight of the snowhowdahed Andes conveys naught of dread, except, perhaps, in the mere fancying of the eternal frosted desolateness reigning at such vast altitudes, and the natural conceit of what a fearfulness it would be to lose oneself in such inhuman solitudes. Во-вторых. У индейца-перуанца вечное зрелище снегами оседланных Анд не вызывает страха, помимо, быть может, представления о бесконечной ледяной пустыне, которая царит на такой огромной высоте, и помимо вполне естественных мыслей о том, как ужасно было бы затеряться среди этого мертвого безлюдья. Much the same is it with the backwoodsman of the West, who with comparative indifference views an unbounded prairie sheeted with driven snow, no shadow of tree or twig to break the fixed trance of whiteness. Или же поселенцы Дальнего Запада, они тоже с относительным безразличием разглядывают бескрайнюю прерию, затянутую снежной пеленой, где нет ни сучка, ни деревца, чтобы отбросить тень на эту застывшую, недвижную белизну. Not so the sailor, beholding the scenery of the Antarctic seas; where at times, by some infernal trick of legerdemain in the powers of frost and air, he, shivering and half shipwrecked, instead of rainbows speaking hope and solace to his misery, views what seems a boundless churchyard grinning upon him with its lean ice monuments and splintered crosses. Но не то испытывает моряк в водах Антарктики, где порой, когда ему, иззябшему и замученному, грозит, казалось бы, неотвратимое кораблекрушение, вместо радуги, сулящей надежду и утешение в его страдании, какая-то адски хитрая игра морозного воздуха представляет его взору лишь бесконечный церковный погост, который с издевкой ухмыляется ему своими убогими ледяными надгробиями и расщепленными крестами. But thou sayest, methinks that white-lead chapter about whiteness is but a white flag hung out from a craven soul; thou surrenderest to a hypo, Ishmael. Но вы скажете мне, быть может, что эта убеленная глава о белизне - это всего лишь белый флаг, выброшенный трусливой душой; ты покорился ипохондрии, Измаил. Tell me, why this strong young colt, foaled in some peaceful valley of Vermont, far removed from all beasts of prey-why is it that upon the sunniest day, if you but shake a fresh buffalo robe behind him, so that he cannot even see it, but only smells its wild animal muskiness-why will he start, snort, and with bursting eyes paw the ground in phrensies of affright? Тогда ответьте мне лучше, чем объяснить поведение сильного и здорового жеребенка-однолетка, появившегося на свет где-нибудь в мирной долине Вермонта, вдали от всяких хищников, который в любой солнечный день, если вы только встряхнете у него за крупом новой бизоньей полостью, так что он и не увидит ее даже, а только почует дикий запах мускуса, непременно вздрогнет, захрапит и, выкатив глаза, ударит копытами в землю, объятый паническим страхом? There is no remembrance in him of any gorings of wild creatures in his green northern home, so that the strange muskiness he smells cannot recall to him anything associated with the experience of former perils; for what knows he, this New England colt, of the black bisons of distant Oregon? Ведь он не может помнить о том, как сшибались рогами дикие быки на его зеленой северной родине, и поэтому запах мускуса не напоминает ему о былых опасностях; ибо что знает он, однолеток из Новой Англии, о черных бизонах далекого Орегона? No; but here thou beholdest even in a dumb brute, the instinct of the knowledge of the demonism in the world. Ничего, разумеется; но здесь, в этой бессловесной твари, мы сталкиваемся с врожденным знанием о демонических силах мира. Though thousands of miles from Oregon, still when he smells that savage musk, the rending, goring bison herds are as present as to the deserted wild foal of the prairies, which this instant they may be trampling into dust. Пусть тысячи миль отделяют его от Орегона -все равно, когда он чует воинственный запах мускуса, свирепые, всесокрушающие бизоньи стада для него становятся такой же реальностью, как и для отбившегося от табуна жеребенка прерий, которого они, быть может, в этот самый миг затаптывают в прах. Thus, then, the muffled rollings of a milky sea; the bleak rustlings of the festooned frosts of mountains; the desolate shiftings of the windrowed snows of prairies; all these, to Ishmael, are as the shaking of that buffalo robe to the frightened colt! И точно так же приглушенное рокотание пенных валов, и холодный шорох инея в горах, и безжизненное колыхание снежной пелены, которую сдувает с места на место ветер прерий, -все это для Измаила - все равно что бизонья полость для перепуганного однолетка! Though neither knows where lie the nameless things of which the mystic sign gives forth such hints; yet with me, as with the colt, somewhere those things must exist. И он, как и я, не знает, где таятся неизреченные ужасы, которые нам с ним дано учуять, но оба мы знаем, что где-то они существуют. Though in many of its aspects this visible world seems formed in love, the invisible spheres were formed in fright. Ибо многое в этом видимом мире построено на любви, но невидимые сферы сотворены страхом. But not yet have we solved the incantation of this whiteness, and learned why it appeals with such power to the soul; and more strange and far more portentous-why, as we have seen, it is at once the most meaning symbol of spiritual things, nay, the very veil of the Christian's Deity; and yet should be as it is, the intensifying agent in things the most appalling to mankind. Но и теперь не разгадали мы тайну магической силы в белизне и не узнали, почему так воздействует она на души; не узнали - что еще непонятнее и много чудеснее, - почему, как мы видели, она является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит усугублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий. Is it that by its indefiniteness it shadows forth the heartless voids and immensities of the universe, and thus stabs us from behind with the thought of annihilation, when beholding the white depths of the milky way? Может быть, своей бескрайностью она предрекает нам бездушные пустоты и пространства вселенной и наносит нам удар в спину мыслью об уничтожении, которая родится в нас, когда глядим мы в белые глубины Млечного Пути? Or is it, that as in essence whiteness is not so much a colour as the visible absence of colour; and at the same time the concrete of all colours; is it for these reasons that there is such a dumb blankness, full of meaning, in a wide landscape of snows-a colourless, all-colour of atheism from which we shrink? Или же все дело тут в том, что белизна в сущности не цвет, а видимое отсутствие всякого цвета, и оттого так немы и одновременно многозначительны для нас широкие заснеженные пространства - всецветная бесцветность безбожия, которое не по силам человеку? And when we consider that other theory of the natural philosophers, that all other earthly hues-every stately or lovely emblazoning-the sweet tinges of sunset skies and woods; yea, and the gilded velvets of butterflies, and the butterfly cheeks of young girls; all these are but subtile deceits, not actually inherent in substances, but only laid on from without; so that all deified Nature absolutely paints like the harlot, whose allurements cover nothing but the charnel-house within; and when we proceed further, and consider that the mystical cosmetic which produces every one of her hues, the great principle of light, for ever remains white or colourless in itself, and if operating without medium upon matter, would touch all objects, even tulips and roses, with its own blank tinge-pondering all this, the palsied universe lies before us a leper; and like wilful travellers in Lapland, who refuse to wear coloured and colouring glasses upon their eyes, so the wretched infidel gazes himself blind at the monumental white shroud that wraps all the prospect around him. Если же мы припомним другую теорию натурфилософов, согласно которой все земные краски, все разноцветные эмблемы и гербы величия и красоты, нежные тона небес и кущ на закате и позлащенный бархат бабочек, и пушистые, как бабочки, щеки юных девушек -все это лишь изощренный обман, свойства, не присущие явлениям, а нанесенные на них извне; и, стало быть, вся наша обожествленная Природа намалевана, как последняя потаскушка, чьи соблазны скрывают под собой лишь могильный склеп; если мы припомним вслед за этим, что само таинственное косметическое средство, которое дает природе все ее тона и оттенки - сам по себе свет в его великой сущности неизменно остается белым и бесцветным и что, падая на материю не через посредство посторонних сил, а прямо, он все предметы, даже тюльпаны и розы, окрасил бы своим собственным несуществующим цветом - если представить себе все это, то мир раскинется перед нами прокаженным паралитиком; и подобно упрямым путешественникам по Лапландии, которые отказываются надеть цветные очки, жалкий безбожник ослепнет при виде величественного белого покрова, затянувшего все вокруг него. And of all these things the Albino whale was the symbol. Воплощением всего этого был кит-альбинос. Wonder ye then at the fiery hunt? Можно ли тут дивиться вызванной им жгучей ненависти? CHAPTER 43. Hark! Глава XLIII. ТС-С! "HIST! - Тс-с! Did you hear that noise, Cabaco?" Ты слышишь там какой-то шум, Кабако? It was the middle-watch; a fair moonlight; the seamen were standing in a cordon, extending from one of the fresh-water butts in the waist, to the scuttle-butt near the taffrail. Была ночная вахта; ярко светила луна; матросы стояли цепочкой от бочонков с пресной водой на шкафуте до пустой бочки-лагуна, привинченной к палубе гака-борта. In this manner, they passed the buckets to fill the scuttle-butt. Передавая друг другу ведра, они наполняли водой лагун. Standing, for the most part, on the hallowed precincts of the quarter-deck, they were careful not to speak or rustle their feet. Те, кому выпало стоять на пустующих шканцах, остерегались произнести хоть слово, остерегались переступить ногами. From hand to hand, the buckets went in the deepest silence, only broken by the occasional flap of a sail, and the steady hum of the unceasingly advancing keel. Ведра переходили из рук в руки в глубокой тишине, только слышно было, как заполощет вдруг на ветру парус да ровно поет вода под неотступно бегущим килем. It was in the midst of this repose, that Archy, one of the cordon, whose post was near the after-hatches, whispered to his neighbor, a Cholo, the words above. И тогда-то среди этого безмолвия Арчи, который стоял поблизости от кормового люка, шепнул своему соседу метису: "Hist! did you hear that noise, Cabaco?" - Тс-с! Слыхал там какой-то шум, Кабако? "Take the bucket, will ye, Archy? what noise d'ye mean?" - Бери-ка ведро, Арчи, не зевай. Какой еще шум? "There it is again-under the hatches-don't you hear it-a cough-it sounded like a cough." "Cough be damned! - Вот... вот опять... из люка... неужели не слышишь? кашлянули... да, вроде кашля. Pass along that return bucket." - Передавай-ка сюда порожнее ведро. "There again-there it is!-it sounds like two or three sleepers turning over, now!" - А вот опять... слышишь? Словно там человека три храпят и во сне ворочаются. "Caramba! have done, shipmate, will ye? - Карамба! кончай чепуху молоть, брат. It's the three soaked biscuits ye eat for supper turning over inside of ye-nothing else. Это у тебя в брюхе три сухаря ворочаются, какие ты за ужином умял. Вот и все. Look to the bucket!" Держи ведро! "Say what ye will, shipmate; I've sharp ears." - Что хочешь говори, брат, но у меня слух острый. "Aye, you are the chap, ain't ye, that heard the hum of the old Quakeress's knitting-needles fifty miles at sea from Nantucket; you're the chap." - Ну, ясное дело, не ты ли это слышал в море, за пятьдесят миль от Нантакета, как звякают спицы твоей старухи квакерши? "Grin away; we'll see what turns up. - Смейся, смейся, мы еще посмотрим, что дальше будет. Hark ye, Cabaco, there is somebody down in the after-hold that has not yet been seen on deck; and I suspect our old Mogul knows something of it too. Поверь мне, Кабако, там в трюме есть кто-то, кого еще на палубе не видели. И чую я, старый Могол тоже об этом кое-что знает. I heard Stubb tell Flask, one morning watch, that there was something of that sort in the wind." Я слыхал, на днях Стабб в утреннюю вахту говорил Фласку, что в воздухе пахнет чем-то в этом роде. "Tish! the bucket!" - Да будет тебе! Держи ведро! CHAPTER 44. The Chart. Глава XLIV. МОРСКАЯ КАРТА Had you followed Captain Ahab down into his cabin after the squall that took place on the night succeeding that wild ratification of his purpose with his crew, you would have seen him go to a locker in the transom, and bringing out a large wrinkled roll of yellowish sea charts, spread them before him on his screwed-down table. Если бы вы спустились вместе со старым Ахавом в его каюту, когда прошел шквал, налетевший на судно в ночь после того, как его безумный замысел был принят разгоряченной командой, вы увидели бы, как он подходит к шкафу в переборке, вынимает из него большой сморщенный рулон пожелтевших морских карт и разворачивает их у себя на столе. Then seating himself before it, you would have seen him intently study the various lines and shadings which there met his eye; and with slow but steady pencil trace additional courses over spaces that before were blank. Потом вы увидели бы, что он сел и стал внимательно разглядывать представившиеся его взору бесчисленные линии и знаки, медленно, но уверенно прокладывая карандашом новые курсы через еще не перечеркнутые пространства. At intervals, he would refer to piles of old log-books beside him, wherein were set down the seasons and places in which, on various former voyages of various ships, sperm whales had been captured or seen. Время от времени он поднимает голову и заглядывает в старые судовые журналы, высокой стопкой лежащие подле него, и по ним справляется, в какое время года и под какими широтами был убит или замечен хоть один кашалот. While thus employed, the heavy pewter lamp suspended in chains over his head, continually rocked with the motion of the ship, and for ever threw shifting gleams and shadows of lines upon his wrinkled brow, till it almost seemed that while he himself was marking out lines and courses on the wrinkled charts, some invisible pencil was also tracing lines and courses upon the deeply marked chart of his forehead. Так он сидел и работал, а тяжелая висячая лампа у него над головой мерно раскачивалась на цепях в лад с корпусом корабля, отбрасывая бегучие отблески и теневые полосы на его нахмуренный лоб, так что под конец стало казаться, что, пока он сам наносил линии и курсы на сморщенные карты, невидимый карандаш провел такие же линии и курсы на глубоко изборожденной карте его чела. But it was not this night in particular that, in the solitude of his cabin, Ahab thus pondered over his charts. Не в первый раз сидел Ахав ночью в своей одинокой каюте, погруженный в изучение морских карт. Almost every night they were brought out; almost every night some pencil marks were effaced, and others were substituted. Они извлекались из-под замка чуть ли не каждую ночь; и чуть ли не каждую ночь стирались с них одни карандашные пометки и появлялись на их месте другие. For with the charts of all four oceans before him, Ahab was threading a maze of currents and eddies, with a view to the more certain accomplishment of that monomaniac thought of his soul. Ибо Ахав, разложив перед собою карты всех четырех океанов, наносил на них лабиринты течений и водоворотов только для того, чтобы тем вернее достигнуть своей безумной всепоглощающей цели. Now, to any one not fully acquainted with the ways of the leviathans, it might seem an absurdly hopeless task thus to seek out one solitary creature in the unhooped oceans of this planet. Для человека, недостаточно знакомого с повадками левиафанов, попытка выследить таким способом в океанах нашей планеты, не схваченной бочарными обручами, какое-то одно определенное животное может показаться до нелепости безнадежной. But not so did it seem to Ahab, who knew the sets of all tides and currents; and thereby calculating the driftings of the sperm whale's food; and, also, calling to mind the regular, ascertained seasons for hunting him in particular latitudes; could arrive at reasonable surmises, almost approaching to certainties, concerning the timeliest day to be upon this or that ground in search of his prey. Но Ахав знал, что это не так. Ему известны были направления всех приливов и течений; а значит, высчитав, как передвигается пища кашалотов, и выяснив по записям очевидцев, в какое время года под какими широтами они встречались, он мог заключить с точностью чуть ли не до одного дня, когда, в каком месте удастся ему застать свою добычу. So assured, indeed, is the fact concerning the periodicalness of the sperm whale's resorting to given waters, that many hunters believe that, could he be closely observed and studied throughout the world; were the logs for one voyage of the entire whale fleet carefully collated, then the migrations of the sperm whale would be found to correspond in invariability to those of the herring-shoals or the flights of swallows. В самом деле, периодичность появления кашалотов в определенных районах оказывается фактом весьма твердо установленным, и многие китоловы считают, что если бы можно было проследить за кашалотами во всех морях, если бы удалось тщательно сопоставить судовые журналы всех китобойных флотилий за год, то обнаружилось бы, что кашалоты появляются в тех или иных местах с такой же неизменностью, как ласточки во время своих перелетов или косяки сельдей.On this hint, attempts have been made to construct elaborate migratory charts of the sperm whale.* *Since the above was written, the statement is happily borne out by an official circular, issued by
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моби Дик - английский и русский параллельные тексты"
Книги похожие на "Моби Дик - английский и русский параллельные тексты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Герман Мелвилл - Моби Дик - английский и русский параллельные тексты"
Отзывы читателей о книге "Моби Дик - английский и русский параллельные тексты", комментарии и мнения людей о произведении.