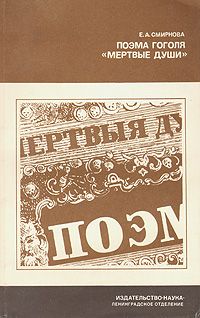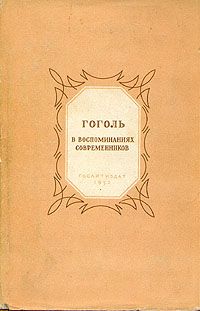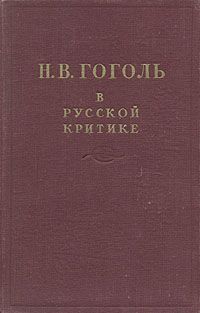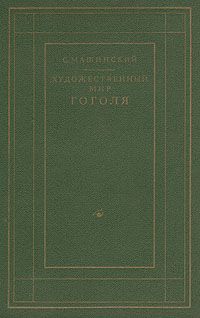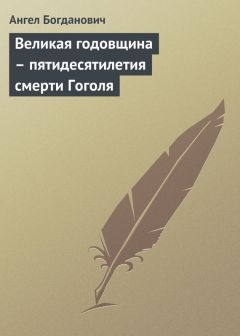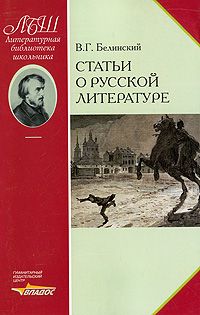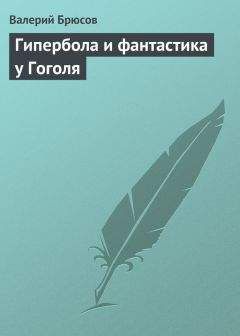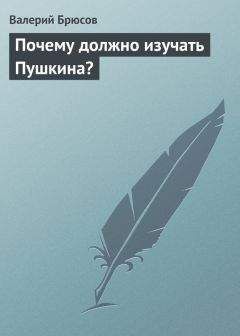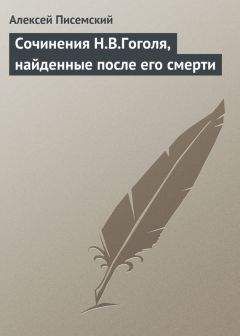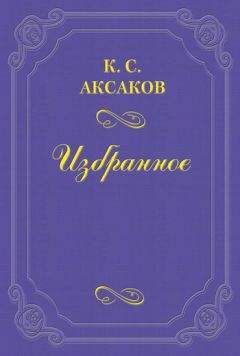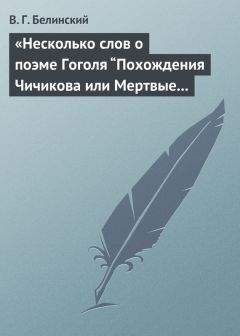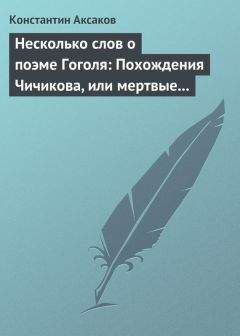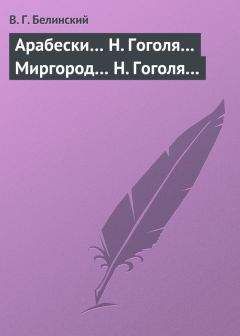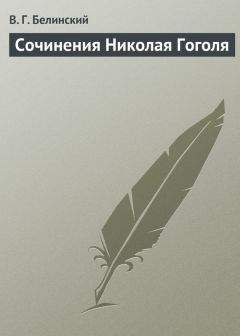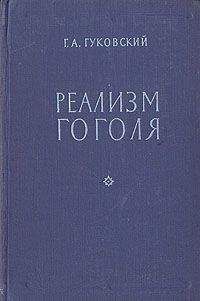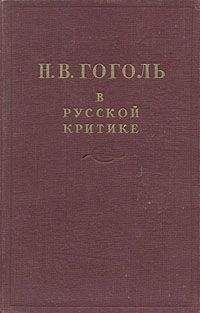Григорий Гуковский - Реализм Гоголя
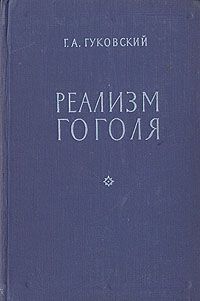
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Реализм Гоголя"
Описание и краткое содержание "Реализм Гоголя" читать бесплатно онлайн.
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
Так перед нами из всего текста поэмы возникает живой человеческий образ автора, вполне личный и в то же время являющий обобщение значительной силы: это – русский литератор, человек простой и незнатный, любящий свою родину, ее язык, ее народ, презирающий властителей этой родины и поставивший себе целью проповедовать суровую правду о ней; это – писатель, знающий свое дело, знающий и то, что не любят правды «читатели высшего сословия», и потому обрекший себя на одиночество подвига и на путь странника в родной стране. Он мудр и печален, гневен и весел. Он изучил свою отчизну всю сверху донизу за свой уже немолодой век: потому что, в отличие от «биографического» Гоголя, он уже немолод и много пришлось ему уже испытать, – да и не могло быть иначе: чреват терниями путь правдолюбца в обществе Собакевичей.
Он говорит о себе: «Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время!» Гоголю было двадцать семь лет, когда он начал писать «Мертвые души», и тридцать два года, когда он окончил поэму. И еще – знаменитый возглас: «О моя юность! О моя свежесть!»
Этот образ русского писателя, данного определенного человека, сам по себе представляет значительное художественное явление. Он противостоит в своей жизненной конкретности абстрактному «я» романтического поэта не менее, чем столь же абстрактной фикции классического пииты. Однако, если бы образ автора «Мертвых душ» был однозначен и исчерпывался только указанными чертами индивидуальной жизненной конкретности, если бы он оставался с начала до конца поэмы лишь портретом умного и народолюбивого интеллигента, он не смог бы стать тем колоссальным образом носителя высшей правды и отражением судьбы всей страны, каким он на самом деле стал.
Диалектика образа автора в «Мертвых душах» состоит и в том, что он одновременно и самоограничен как личность и несет в себе все богатство духовного содержания жизни русского народа; он и индивидуален и надындивидуален одновременно. А так как жизнь страны, родины и народа является объектом изображения в поэме, так как Русь – это и есть ее подлинный герой, то автор «Мертвых душ», – в качестве автора, конечно, выступающий как субъект изложения, как рассказчик о своем герое, – одновременно является и субъектом и объектом русской поэмы, и творцом рассказа о герое, и героем этого же рассказа.
Разумеется, тем самым эпос закономерно сплетается с лирикой в единстве восприятия и отражения жизни; это единство, редко осуществлявшееся книжной литературой XV–XIX веков, хорошо известно фольклору и даже типично для большого фольклорного эпоса – поэмы (или былины и т. п.). В новой литературе человечества Гоголь осуществил его впервые (надо ли напоминать еще раз, что «Мертвые души» – именно поэма). Гениальную попытку, – оборванную смертью, – создать на основе принципов «Мертвых душ» новый демократический эпос предпринял затем Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Образ автора в поэме Гоголя не отделен от изображаемой им Руси и ее судьбы. Он действительно русский человек своего времени, – но, конечно, в пределах мировоззрения Гоголя 1830-х годов, в пределах его стихийного демократизма и ограниченного протеста. Он впаян, вплетен в то, что он сам изображает, – в судьбу народа, нации.
И его взгляд на Русь двоится. С одной стороны, она уныла и вызывает как зримый миру смех, так и незримые ему слезы поэта, она опошлена, и даже народ ее загнан в тупость бессмысленного и античеловеческого существования. С другой стороны, Русь в силах своего народа, в возможностях, в нем заложенных, могуча и вызывает восторг поэта. В соответствии с этими двумя сторонами Руси (ведь это предвещание некрасовского «Ты и могучая, ты и бессильная, ты и убогая, ты и обильная матушка Русь») автор «Мертвых душ», сплетая свой образ с образом отраженной им действительности, включает в себя черты и той и другой стороны родины.
Он не может уйти от преходящей пошлости, исказившей черты родины, он несет ответственность за то, что зло торжествует пока; он винит себя за это, – и он признает себя, автора, частью и этого, дурного, лица Руси. Но он видит и скрытое этим дурным лицом подлинное величие родины, и себя, поэта, он признает частью и этого величественного облика ее. В этой двусторонности было и мужество правды, но было и начало бессилия, смирения перед злом.
Автор «Что делать?» не осудит Марью Алексеевну Розальскую, но ни грана самого себя, как человека и творца, он не сблизит с нею, – так как он весь, без остатка, с новыми людьми, с той Россией, которою он по праву гордится. Автор же «Мертвых душ» во множестве мест начинает говорить как бы голосом пошлости российской, сам становясь посреди Собакевичей и превращаясь как бы в их собрата. В этих случаях он как бы прячется за своими пошлыми героями, и его голос звучит как их голос.
Разумеется, читатель всегда слышит в этих местах и иронию и понимает оценки автора с обратным знаком. Но что это значит? Это значит лишь то, что читатель видит разницу между Гоголем и образом автора и что Гоголь позаботился о том, чтобы читатель видел эту разницу.
Конечно же, ровно в той мере, в которой «автор»-рассказчик сближается с пошлыми героями, которых Гоголь презирает и разоблачает, – Гоголь отделяется от рассказчика; и тогда то, что рассказчик хвалит, Гоголь тем самым осуждает, и наоборот.
Достаточно привести один-два примера из множества, чтобы прояснить этот вопрос до конца. Вот, например, в конце первой главы говорится об умении Чичикова приятно вести себя в обществе и поддержать любой разговор и т. д. «Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек»; нетрудно заметить, что такое понимание порядочности, достоинства человека не принадлежит Гоголю, что он, наоборот, зло смеется над ним.
Но это понимание свойственно именно пошлым героям «Мертвых душ», что и обнаруживается тут же, так как оно служит как бы эталоном, образцом суждения чиновников города NN, и даже выражено оно совсем сходно с их суждениями; а их суждения, в свою очередь, комически-стандартны, как штампованно-стандартна убогая умственная жизнь этих пародий на людей. Вслед за приведенными словами в поэме сказано: «Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты, что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер, что он почтенный и любезный человек…»
Приведу еще пример из восьмой главы; речь идет о дамах города N, причем автор изъясняется о них совсем как какой-нибудь провинциальный кавалер, краснобай и дамский угодник. «Дамы города N были… нет, никаким образом не могу; чувствуется точно робость. В дамах города N больше всего замечательно было то… Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем…» и т. д. (Небезынтересно сравнить этот пассаж с аналогичными фигурами умолчания в речах рассказчика «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».)
И далее: «Дамы города N были то, что называют, презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим». Заметим здесь и одобрение этой примерной «презентабельности» и самое это галантерейное словечко. Далее характеристика дамского общества продолжается в том же тоне.
Особым, и даже не раз наблюдаемым в «Мертвых душах», случаем как бы частичного слияния автора с пошлой стороной жизни изображаемого им общества, причастности автора общественному злу – является и соприкосновение сознания Чичикова с сознанием автора. Где-то, и не случайно, они неожиданно приравнены: мошенник-«приобретатель» – и писатель, взыскующий правды. Не раз мысли Чичикова оказываются мыслями автора – и в глубоком размышлении Чичикова о судьбе купленных им «Мертвых душ», и в замечаниях Чичикова относительно балов и нарядов за счет разорения народа и в других местах.
Выше я упоминал, что эта передача авторских мыслей Чичикову могла иметь и цензурные причины. Это так; однако только цензурою трудно объяснить подобное сближение мыслей в таких ответственнейших в идейном отношении местах поэмы. Дело, конечно, и в том, что автор чувствует себя замешанным во всех делах своей страны, что он угадывает частицу своей души и в Чичикове, где эта русская душа обезображена до неузнаваемости; но все же она есть и там, в Чичикове, который ведь не лишен и ума, и энергии, и даже совести, так как и сам хорошо понимает, что он – мошенник.
Разумеется, нет необходимости доказывать опять, что такое отношение Гоголя к образу автора и к проблеме «русской души» и ограниченно, и идеалистично, и несет в себе примирение со злом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Реализм Гоголя"
Книги похожие на "Реализм Гоголя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Гуковский - Реализм Гоголя"
Отзывы читателей о книге "Реализм Гоголя", комментарии и мнения людей о произведении.