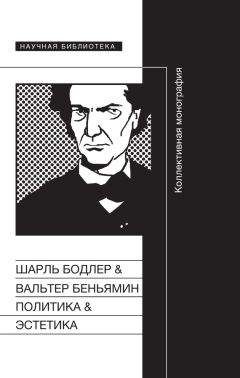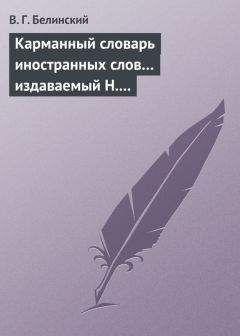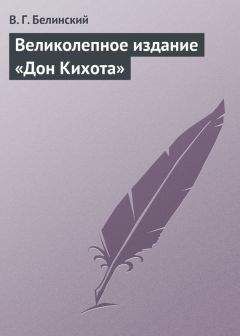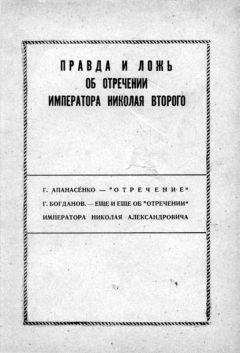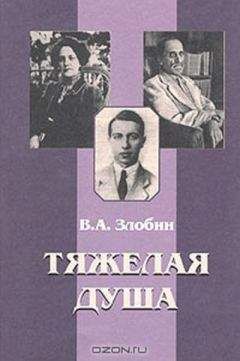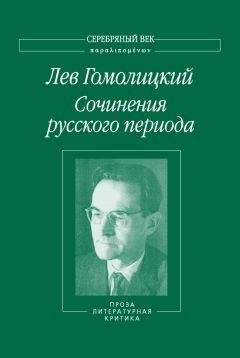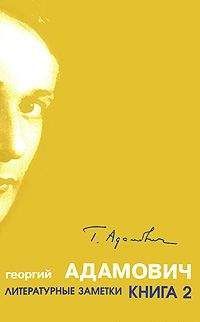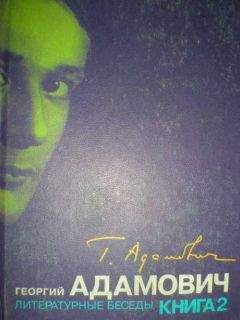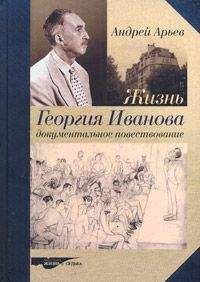Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935
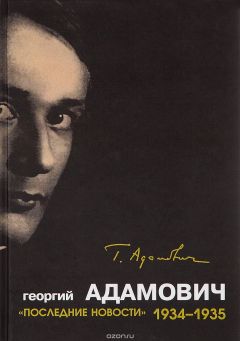
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Последние новости». 1934-1935"
Описание и краткое содержание "«Последние новости». 1934-1935" читать бесплатно онлайн.
Жаль, что Зайцев поторопился. В книге о Бунине давно уже была потребность — и лучше было повременить еще несколько месяцев, чем выпускать небрежную работу. У автора ее достаточно дарования, чтобы не только возбудить у читателей интерес, но и не обмануть их надежд.
* * *
О французской «Жизни Толстого», написанной Модестом Гофманом и Андрэ Пьером, не может быть двух мнений: она очень обстоятельна, точна и, конечно, будет иностранцам полезна. Авторы предупреждают в предисловии, что труд их — компиляция. Скромность Гофмана и Пьера преувеличена. Им удалось дать связный и очень живой рассказ о Толстом — рассказ увлекательный с первой до последней страницы. Новых же данных или каких-либо открытий от них никто и не требовал. Да разве и возможна компиляция в настоящем смысле этого слова, когда дело касается жизни Толстого? Источников такое количество, и они так противоречивы, что биографу волей-неволей приходится делать выбор и в соответствии с общим своим представлением о Толстом отдавать предпочтение тому или иному свидетельству. Модест Гофман и Андрэ Пьер стараются оставаться нейтральными во всех спорных и темных вопросах толстовской биографии, но кое-где им все-таки приходится полагаться на свою интуицию. В частности, глава о смерти Толстого чуть-чуть расходится с некоторыми важнейшими записями… Биограф, конечно, вправе различно оценивать материалы по степени правдоподобности. Но именно потому о компиляции при такой внутренней враждебности материалов не может быть и речи. Авторы «Жизни» правильно поступили, дав как бы «среднего Толстого», т. е. избежать обличительных или апологетических крайностей в рассказе о его семейной драме. При этом им удалось сохранить тип, фигуру, духовный облик Толстого, что и является их главной заслугой.
Единственный упрек, который, по-моему, следует сделать, относится к предисловию. В нем М. Гофман и А. Пьер вышли за пределы своей задачи: едва ли нужны были тут размышления о Толстом вообще, о его месте в нашей культуре, о его противоположности Пушкину… Для русских это, пожалуй, слишком поверхностно, для иностранцев — настолько кратко и «суммарно», что им, иностранцам, остается только поверить авторам «Жизни» на слово. Да кроме того, можно ли в качестве общеизвестной бесспорной истины утверждать, что «Пушкин и Толстой — два величайших гения России, два полюса русского духа, между которыми мечется всякая русская душа»? А Гоголь? А Достоевский? Можно ли считать, положа руку на сердце, что «Пушкин находил истинное счастье в искусстве, в художественном наслаждении и в любви»?
На свете счастья нет, а есть покой и воля, — хотелось бы ответить печальными предсмертными словами самого поэта. Но рассуждения эти увели бы нас далеко. Предисловие не совсем соответствует деловому и описательному характеру книги, однако книга сама по себе прекрасна.
Два слова о любопытнейшей заметке Леона Додэ, посвященной «Жизни Толстого». Этот человек, у которого даже самые решительные и убежденные его политические противники (как Леон Блюм или новоявленный коммунист Андрэ Жид, например) не отрицают редчайшего, почти непогрешимого литературного чутья, отмечен одной странной особенностью: он склонен искать медицинское объяснение большинству жизненных явлений… Причина может быть в том, что Додэ врач по образованию. Медицина служит ему, однако, дурную службу и нередко ставит его в нелепое положение. Несколько лет тому назад, например, Додэ объявил, что понял, почему Наполеон проиграл сражение при Ватерлоо. Дело будто бы вовсе не в оплошности маршала Груши, дело в том, что воля и разум Наполеона в 1815 году уже были ослаблены той болезнью, развитие которой через шесть лет свело его в могилу. Рак будто бы подтачивает силы человека задолго до момента, когда его можно обнаружить, и Наполеон при Ватерлоо был лишь тенью прежнего Бонапарта. Все это весьма убедительно. Беда только в том, что, по убеждению современной науки, у Наполеона рака не было, а та болезнь, от которой он умер в 1821 г., никак не могла повлиять на его решения в 1815 г.
Толстому Додэ приписывает иной недуг, именуемый им «параэпилепсией». Толстой будто бы одержим был манией бегства — от самого себя, от окружающих, от общественной несправедливости, от смерти. Именно он, этот недуг, толкнул Толстого и на последний его знаменитый «уход», который представляет собою не что иное, как «клинический случай»… Попутно Додэ с присущей ему критической прозорливостью и расточительностью разбрасывает множество верных и остроумных замечаний о Толстом. Но основная его мысль такова: автор «Воскресения» — маньяк, настоящую биографию которого напишет только психиатр. Забавно сопоставить эту точку зрения со взглядом другого очень даровитого критика, Стефана Цвейга, если не ошибаюсь, тоже врача — который считает Толстого образцом физического и нравственного здоровья.
ПОЭЗИЯ ЗДЕСЬ И ТАМ
На днях, беседуя с одним из здешних молодых поэтов о «святом ремесле» — по выражению Каролины Павловой, — я показал ему в «Литературном Ленинграде» стихи, которыми Н. Браун, тоже молодой поэт, но не здешний, а советский, закончил свою речь на писательском съезде:
Пылать свечой, как сто свечей!
Сгорать костром! А много ли
Пробьется нас, живых лучей
К живому сердцу Гоголя!
Идем и тычемся — кроты!
Дугой — пророки — горбимся.
Жрецы куриной слепоты
Подножной травкой красоты,
Поджав копыта, кормимся,
А наша речь? Ее река
Лежит ленивой сыростью,
Она глуха, она дика,
Что колокол без языка,
А ей в века бы вырасти!
И что нам жаться к берегам
Визжать слепой уключиной?
Из ветерка бы — в ураган,
Из ручейка бы — в океан,
Да с грозами, да с тучами!
Сиять лучом, как сто лучей,
Сгорать — но сердце вынести,
Но в сонной дикости вещей
Сквозь одиночество ночей
В большое солнце вырасти!
— Правда, как талантливо?
Он помолчал.
— Да, конечно, талантливо. Очень талантливо.
— А нравятся вам эти стихи?
— Нет, совсем не нравятся.
Я такого ответа и ждал. Мое собственное впечатление было совершенно одинаковым: хорошие стихи, живые, ловкие, но слишком уж «литературные», Поэтому — «ни к чему».
— А скажите, отчего вам эти стихи не нравятся? Можете ли вы это самому себе объяснить?
— Да, не знаю… как-то неловко теперь так писать… чуть-чуть глупо!.. ведь мы не дети!.. ведь поэзия — это что-то совсем другое… кому все это нужно?
— А уверены ли вы, что могли бы такие стихи написать?
— Нет, не уверен. Вероятно, не мог бы. Но я не хочу писать такие стихи, это главное. Мне не интересно это. Я лучше уж пойду мыть стекла в магазинах или просто посижу за кафе-кремом… А стихи — это совсем другое.
В этих признаниях, повторяю, нового или неожиданного для меня не было. В них я лишь нашел подтверждение того, что знал. Постараюсь дать пояснение словам моего собеседника, чтобы сделать их всем понятными — и вместе с тем провести параллель, по существу «психологическую», между поэзией эмигрантской и советской.
Прежде всего, два слова о формальных отношениях одной от другой. Отличья эти бросаются в глаза при самом беглом просмотре московских журналов или стихотворных сборников. Я говорю, конечно, не о том, что в России стихи печатаются большей частью «уступами», т. е. так:
Он
полетел
на край
Система эта, введенная в моду Маяковским, была ему нужна для того, чтобы отмечать цезуры, игравшие в его декламационной, ораторской поэзии большую роль. Маяковский указывал паузы, чертил ритмическую схему своего стиха. Конечно, мог бы и он обойтись без этого сомнительного новшества, — но тут, по крайней мере, оно имело некоторый смысл. С тех пор чуть ли не все поэты рубят строчку на куски, так же, как Маяковский, — и в огромном большинстве случаев эта манера выродилась просто в манерность. У нас, слава Богу, мода не привилась, — но если бы она и пустила в эмигрантской поэзии корни, отличие этой поэзии от советской не сделалось бы менее резким. У нас, здесь, внешняя форменная культура стиха в пренебрежении: единственное, что еще, пожалуй, ценится, это стиль и выбор слов. Но никто — или почти никто — не гонится уже за неслыханными, редкими рифмами, за изысканными звуковыми сочетаниями, за композиционными фокусами. Если дать кому-либо из наиболее искусных и опытных советских стихотворцев (я не говорю: больших поэтов) — например, Сельвинскому, Тихонову или Асееву — на просмотр стихи, которые высоко расцениваются здесь, у нас, в эмиграции, они, вероятно, презрительно усмехнулись бы: «как бедно, как бледно, как серо!». И по-своему они были бы правы. Но если и одному из здешних наших мастеров показать какой-нибудь эффектнейший московский стихотворный фейерверк, усмешка презрения в ответ будет не менее искренней: «как наивно, как жалко!» Никогда еще разлад между двумя направлениями — если только можно тут говорить о направлениях — русской поэзии не достигал такой остроты. Проза здесь и там живет в сравнительном формальном согласии. Стихи же разошлись настолько, что на них как будто лежит печать двух разных эпох. Кстати, добавлю, что поэзия в общем находится сейчас в России на более высоком культурном уровне, нежели проза, и толки о ее «завоеваниях и достижениях» в формальном отношении вовсе не всегда представляют собой пустое бахвальство.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Последние новости». 1934-1935"
Книги похожие на "«Последние новости». 1934-1935" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935"
Отзывы читателей о книге "«Последние новости». 1934-1935", комментарии и мнения людей о произведении.