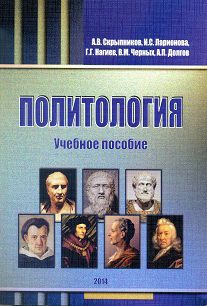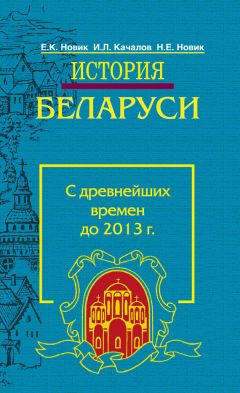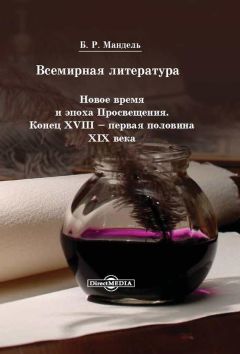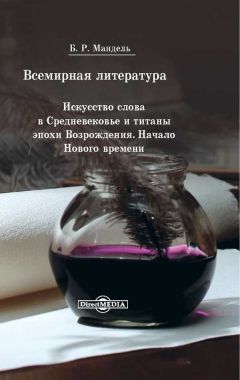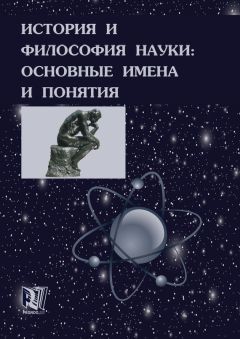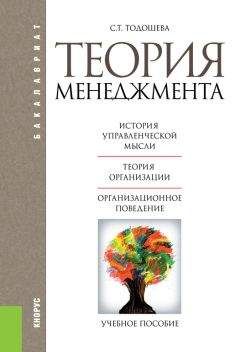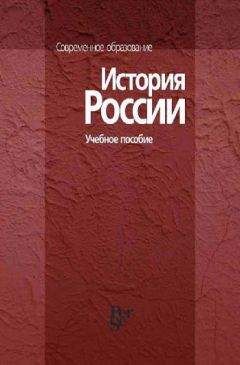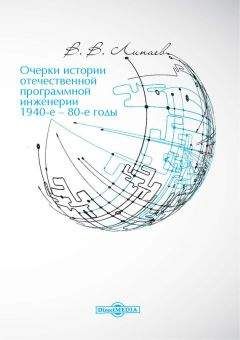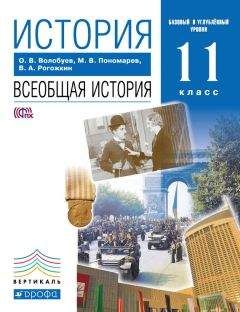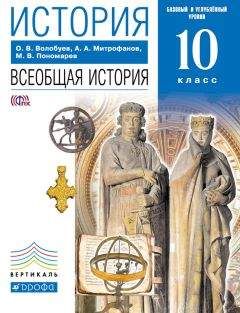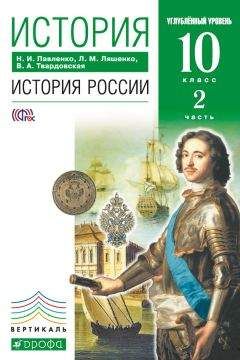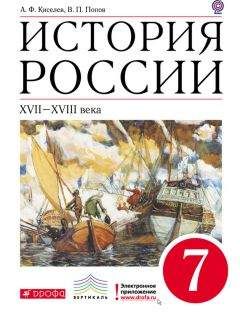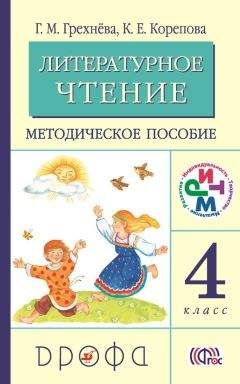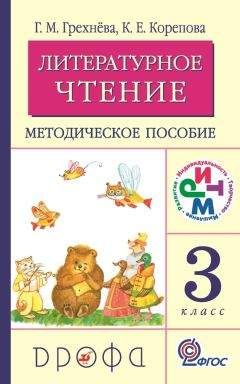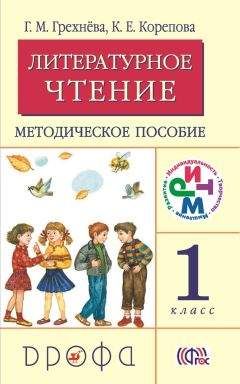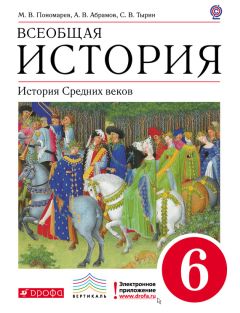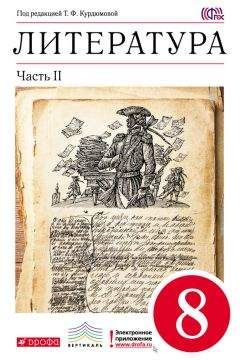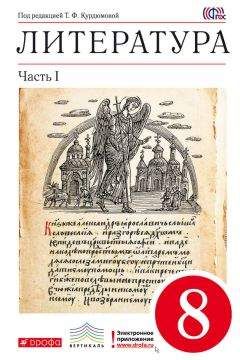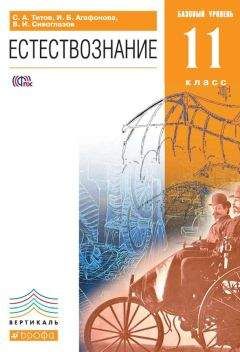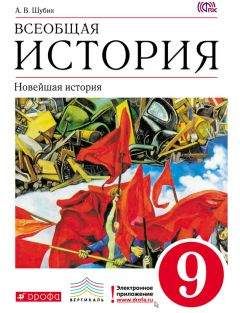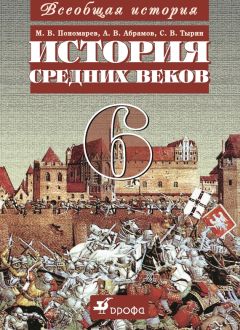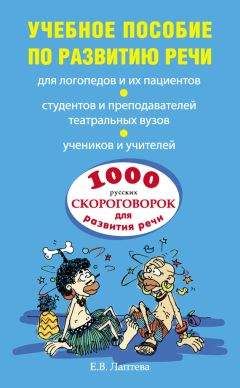Борис Емельянов - История отечественной философии XI-XX веков
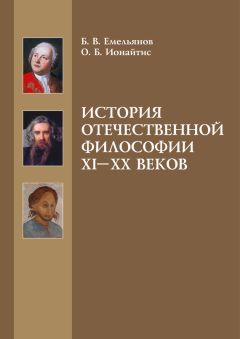
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История отечественной философии XI-XX веков"
Описание и краткое содержание "История отечественной философии XI-XX веков" читать бесплатно онлайн.
Настоящее учебное пособие соответствует новому образовательному стандарту. В нем освещаются ключевые моменты развития отечественной философии за десять веков ее существования, дается анализ важнейших ее тем и направлений особенностей развития материалистической и идеалистической традиции.
Максим Грек написал целый ряд сочинений, в которых отразил свое понимание проблем общественного бытия. Например, «Инока Максима главы поучительные начальствующим правоверно». Максим Грек пишет о том, что мир есть система, которая функционировать должна без каких-либо отклонений. Только при этом условии государство, его подданные смогут процветать. Основой всего является правитель. От него зависит судьба народа и государства. Царь, чувствуя высоту положения и ответственность свою, испытывает и соблазны многие. Поэтому, Максим Грек и указывает: «…мужество же души, царскiя же и боголюбивыя, востающiя на ню богомерскiя плотскiя страсти и реченiемъ, утишити всегда тщится»147. Определяет образ жизни и мышления царя Максим Грек таким образом: «Царя истинна и самодержца оного мни, благовернейшiй царю, который ко еже правдою и благозаконiемъ устраяти житейская подручниковъ прилежитъ и безсловеснымъ своея души страстемъ же и похотемъ одолети тщится всегда, глаголю же ярости и гневу напрасному и беззаконнымъ плотскимъ похотемъ»148. Царь должен быть образцом во всем для своих подданных: веры, мудрости, нравственности, милосердия, смирения. Добродетели должны украшать нрав и поступки правителя.
Обращаясь к Ивану Грозному, Максим Грек формулирует свое видение законов устройства государства: «Многа убо и ина суть уподобляющая небесному Владыце благоверно царствующихъ на земли, и кротость бо и долготерпенiе, иеже о подручныхъ прилежанiе, и еже ко своимъ боляром благоволенiе и веледарное, изрядне же правда и милость и еже не презрети обидимыя, но со многимъ человеколюбiемъ и божественою ревностiю воставляти на отмщенiе ихъ»149. Если царь таков, то и его государство стабильно развивается и не переживает ни внешних, ни внутренних потрясений: «Сiя начальствующихъ Богу подобныхъ соделываютъ и державу ихъ не точiю утверждаютъ и во глубоце мире и тишине всегда сохраняютсъ, но еще и преславнейшими победами украшаютъ и прославялютъ ихъ, вседержительней деснице свыше помогающи имъ и покоряющи подъ ногами ихъ вся ихъ супостаты»150.
Правитель может управлять вверенным ему Богом государством, опираясь на веру и разум. Он должен постоянно учиться у мудрых знанию истины, в первую очередь – у философов.
Максим Грек являет нам в истории философии интересный пример взаимовлияния самых разных культур: итальянской, византийской и русской. Он стоит на перекрестке этих разных духовных традиций. Приехав на Русь, он не просто выучил язык новой страны, он принял активное участие в ее жизни, духовной – в первую очередь. Он, с одной стороны, стал активным последователем русского движения – нестяжательства, с другой стороны, явился звеном, через которое византийское наследие транслировалось и становилось еще более известно на Руси. Деятельность Максима Грека ставит перед нами вопросы о сочетании и взаимодействии мировой и национальной философии. И здесь, нам кажется, стоит вспомнить рассуждения по вопросу о преемственности в философии, высказанные В. К. Чалояном: «…мировая культура проявляется лишь в отдельных национальных культурах. Никакое национальное творчество, даже если оно становится всеобщим достоянием, не перестает быть национальным. Мировое и национальное – это противоположности. Но эти противоположности образуют единство – такое единство, в котором связи отдельного и общего всегда исторически детерминированы. При этом, чем более развито общество, тем полнее и интенсивнее связи отдельного и общего и многограннее само единство. …благодаря внешнему общению национальное и всеобщее (мировое) оказываются в неразрывном единстве: во всеобщем содержится национальное, а в национальном – всеобщее»151. И пример Максима Грека, его влияние на отечественное философствование и место в истории русской философской мысли, подтверждает высказанное мнение. Действительно, Максим Грек обогащал русскую мысль идеями, что, в свою очередь, позволяло ей войти в мировой философский процесс.
Постепенно в средневековой Руси в восприятии человека все более начинает сказываться стремление к всестороннему пониманию личности, к отражению эволюции и процессов изменения, в ней происходящих. Человек становится «земным» человеком: герои литературных произведений “спускаются на землю”, перестают ходить на «ходулях» своих официальных высоких рангов в феодальном обществе (Д. С. Лихачев). Особую популярность приобретают автобиографии. Пример тому – наследие Ивана Грозного, протопопа Аввакума.
Злое начало, проявляющееся в мире, становится еще более общим и жестоким. Личность, в свою очередь, определяется в борьбе с ним, в утверждении ценностей бытия и в борьбе за свободу в исповедании добра. Борьба Аввакума против государства и церкви, против «благополучных» людей есть новый этап борьбы за освобождение человеческой индивидуальности. Но при этом, освободившись, сама эта свободная личность начинает проявлять тенденции к авторитаризму, угнетению свободы других, ничуть не сомневаясь в том, что имеет на это право. С этой точки зрения, «Житие» Аввакума, его Послания демонстрируют новую трагедию – трагедию индивидуализма.
Протопоп Аввакум ведет борьбу со всем миром, погрязшим в грехе и заблуждениях, один на один. Он вызвал на единоборство все государство. Он ведет титаническую борьбу, но борьбу одиночки. Не случайно во сне Аввакуму снится, что тело его заполнило собою весь мир. У Аввакума есть последователи, он обменивается с ними посланиями, но Аввакум воспринимает свою борьбу лично – «один на один». Это не только духовная борьба, но и физическая, борьба силы с инерцией материи, с сопротивлением материальной среды. Аввакуму приходится преодолевать голод и холод, окружающая природа то громоздится над ним горами, то топит водами Иртыша, то наступает льдами, то засыпает землей в Пустозерской тюрьме. В своей борьбе с природой, отражающей косность греховного мира, Аввакуму удается преодолевать сопротивление самих законов природы.
Для литературы времени протопопа Аввакума характерно большое внимание к быту, что также отражает возросший интерес к жизни конкретной личности с ее повседневными заботами. При этом человек выступает существом ищущим, самостоятельным. Человек покидает рамки социального положения. Но цена этой свободы – одиночество.
Логика развития философии истории и антропологических воззрений в средневековой Руси приходит к общему результату: историческая иллюзия – не сбылась, человек – утратил ощущение гармонии мира и себя как вершины мироздания. Именно эти проблемы будет пытаться разрешить XVIII столетие, но это уже будет другой этап истории отечественной философии.
Нужно отметить, что русских средневековых философов волновала и гносеологическая проблематика, в которой явно прослеживается антропологический акцент. В целом нужно отметить, что, приняв крещение, русская культура получила в дар богатейшую литературу на греческом и славянском языках. Книги богословские, исторические, естественно-научные произвели переворот в сознании Киевской Руси, они были восприняты как откровение, приобрели непререкаемый авторитет, которого они не могли иметь в греко-римском мире, где христианство в период его утверждения выступало в качестве антитезы внешней мудрости и утонченной языческой культуре. Поэтому идеал монаха, отвергающего книжную мудрость, в общем-то не получил широкого распространения на Руси. Любовь к книгам характеризует русскую средневековую культуру. Книга и мудрость часто ассоциируются.
Русские памятники письменности хранят множество «похвальных слов» книгам, но особое место среди них занимает начальная статья «Изборника 1076 года» «Слово некоего калугера о чьтении книг». Начинается статья императивом «Добро есть братие почитанье книжьное», оценивающим чтение книг как «добродеяние», то есть самой высшей оценкой, какую могло получить действие по шкале оценочных терминов эпохи. В «Изборнике 1076 года», как и в других текстах этого времени, говорится о том, что еретик – человек, отвергающий книгу: «Еретик чловек отъвраштяти ся, книгы преданыя почитати, а в съкръвеныя отинудь не приницяти»152.
Подобное отношение к слову и книге вписывается в общую христианскую традицию, византийскую в том числе. В византийском миросозерцании доминировало языковое сознание, для которого характерна устремленность к онтологическому, метафизическому, аксиологическому, эстетическому и гносеологическому видению слова. Слово понималось как связующее мир Бога и мир человека. Поэтому предметный мир часто воспринимался как «текст» (книга) Божественного Логоса, которую необходимо научиться «читать». Ведь и общение с Богом строится на словах. Поэтому многие произведения и именуются «Слова…».
Для русского книжника, действующего в той же культурной парадигме, буква, слово имели большое значение. Киевского книжника завораживала магия алфавита. Не случайно предлагается исследовать славянскую азбуку «…не просто как техническое средство письменности, а как орган и предмет философского сознания»153.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История отечественной философии XI-XX веков"
Книги похожие на "История отечественной философии XI-XX веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Емельянов - История отечественной философии XI-XX веков"
Отзывы читателей о книге "История отечественной философии XI-XX веков", комментарии и мнения людей о произведении.