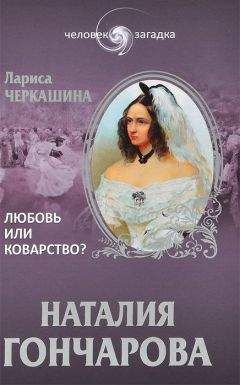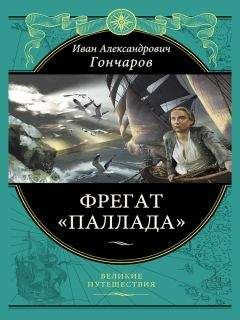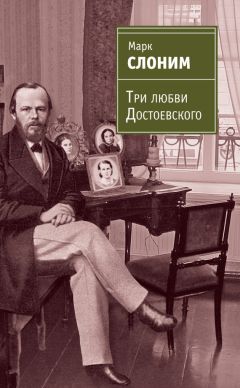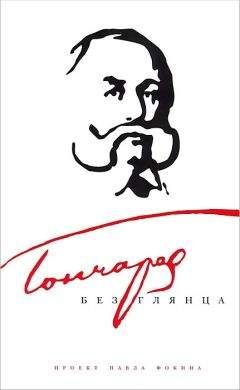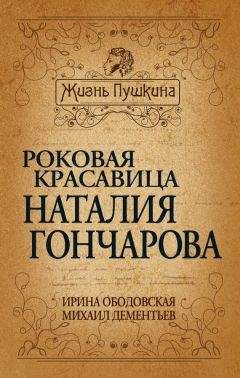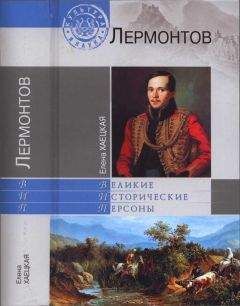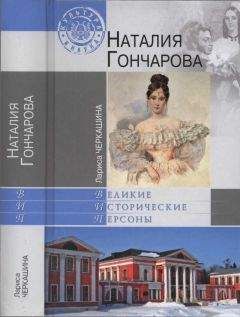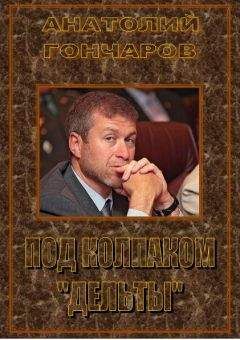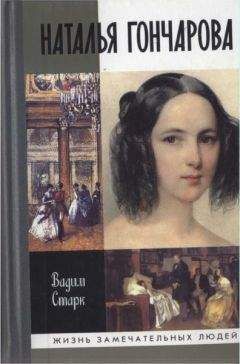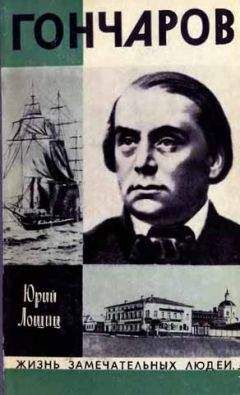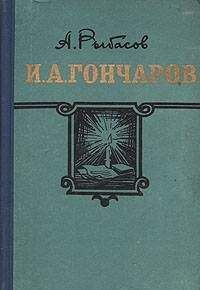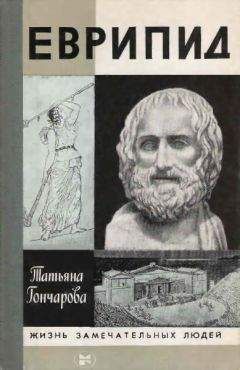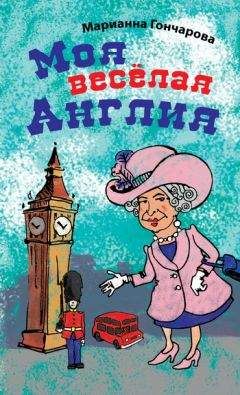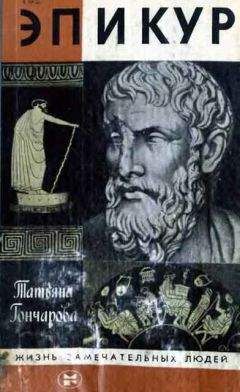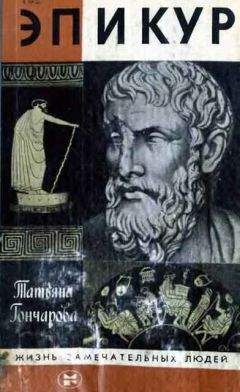Владимир Мельник - Гончаров и православие
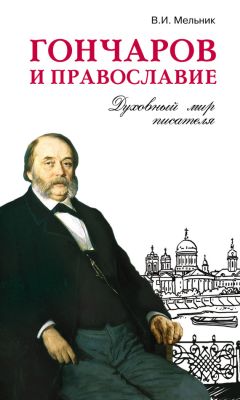
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Гончаров и православие"
Описание и краткое содержание "Гончаров и православие" читать бесплатно онлайн.
Личность и творчество великого русского писателя И. А. Гончарова впервые рассматриваются с христианской точки зрения. Установлено, что писатель находился в церковной ограде от первого до последнего дня своей жизни, а в его романах разлит свет Евангелия. Романная трилогия Гончарова показывает духовное восхождение героя: от АДуева в «Обыкновенной истории» до РАЙского в «Обрыве». Книга доказательно ставит имя Гончарова в ряд христианских русских писателей: от Н. В. Гоголя до А. С. Хомякова и Ф. М. Достоевского. При этом Гончаров шел своим путем, предвосхищая поиски христианской философии Серебряного века.
Христианство и культура
Салон Майковых. Первые литературные опыты
Весной 1835 года губернатор А. М. Загряжский был смещен со своей должности. Уезжая в Петербург, он взял с собою и своего секретаря — Гончарова, Видимо, не без его участия Гончаров получил должность переводчика в департаменте внешней торговли Министерства финансов. В департаменте Гончаров близко сошелся с Владимиром Андреевичем Солоницыным, сыгравшим заметную роль в его жизни и писательской судьбе.
В. А. Солоницын (1804–1844) в 1836–1841 гг. являлся помощником правителя канцелярии Департамента внешней торговли Министерства финансов. Он и сам, будучи учителем Аполлона и Валериана Майковых, не лишен был литературного дара. Не случайно в начале 1840-х годов он редактировал вместе с О. И. Сенковским журнал «Библиотека для чтения». Но главное — Солоницын привел Гончарова в семью Майковых, недавно переехавшую в Петербург из Москвы. Семья эта в религиозном отношении жила если не напряженной, то все-таки глубокой жизнью. Это не была жизнь духовная в собственном ее понимании, но скорее — культурно-религиозная, кстати, понятная и близкая Гончарову. Здесь стоит упомянуть, что род Майковых восходит к великому подвижнику Русской Православной Церкви святому Нилу Сорскому. Сам академик живописи Николай Аполлонович Майков расписал знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Известно, что в роду Майковых господствовали традиции Православия и монархизма.
«Майковский период» творчества Гончарова отмечен такими произведениями, как «Лихая болесть» (1838), «Счастливая ошибка» (1839). Эти повести показывают высокую степень начитанности Гончарова в Священном Писании. В повестях не случайно встречаются библеизмы, а также реминисценции из Ветхого и Нового Заветов. Рисуя всеобщее пробуждение жизни весной, Гончаров использует в повести «Лихая болесть» библейские реминисценции: «Все засуетилось… на небеси горе, и на земли низу, и в водах, и под землею» (ср. Исх. 20, 4). Смысл скрытой цитаты проясняется при полном воспроизведении текста библейского стиха. В книге «Исход» повествуется об исходе еврейского народа из Египта. Бог обращается к еврейскому народу: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой…» (Исх. 20, 3–5). Гончаров весьма тонко использует библейский текст. Ведь сначала создается впечатление, что цитата взята из книги «Бытия» и отсылает к словам Библии о сотворении мира: обычное весеннее пробуждение природы Гончаров, как первоначально кажется, намеренно подает как величайший акт сотворения мира, подчеркивая библейской отсылкой значимость этого события для семьи Зуровых, героев повести, и вызывая ироничную улыбку читателя, На самом деле замысел глубже: Зуровы иронично обвиняются в том, что из своих загородных прогулок они «сотворили себе кумира». Это тем более характерно, что перед приведенными словами в повести «Лихая болесть» читаем: «В природе поднялся обычный шум; те, которые умирали или спали, воскресли и проснулись…» Таким образом, молодой прозаик уже обнаруживает не только прекрасное знание текста Священного Писания, но и умение многопланово включить библейскую реминисценцию в свое произведение. Характерно намечена в этой ранней повести и тема «сна» — в ее духовном ракурсе, что получит столь сильное продолжение в творчестве Гончарова, в частности, в романе «Обломов», В этой же повести заложена и другая традиция: во многих своих произведениях романист упоминает конкретные церкви и монастыри. В «Лихой болести» он делает это впервые, упоминая «Невский монастырь» (А. I. 37), то есть Александро-Невскую Лавру, где Гончаров и будет похоронен в свое время. Упомянута также и Киево-Печерская Лавра, Подчеркивая то, что страсть Зуровых к загородным прогулкам носит характер «болести», Гончаров иронично сравнивает ее с языческой фетишизацией. Зуровы, по его мнению, «сотворили себе кумира» и даже превзошли в своей страсти религиозные устремления верующих: «Никогда ни один поклонник женолюбивого пророка не стремился с такою жадностью в Мекку, ни одна московская или костромская старуха не жаждала так сильно подышать святостью киевских пещер» (А. I. 37).
В повести содержится и первое упоминание религиозных подвижников в творчестве Гончарова: упомянут католический монах-аскет Петр Пустынник: «Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынник, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал» (А. I. 58). Петру Пустыннику (ок. 1050–1115) приписывают организацию Первого крестового похода. В этом деле он отличался необыкновенным воодушевлением, которым увлек даже папу Римского[123]. Об этом подвижнике Гончаров мог узнать из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», которую он хорошо знал. Петр Пустынник является одним из действующих лиц поэмы.
Подспудно поданный мотив «крестовых походов» не случаен. В повести нарочито последовательно и иронически подчеркивается едва ли не религиозная «высота» страсти Зуровых к загородным путешествиям: в болотах и оврагах под Петербургом они видят «клочок земного Рая», «где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу»[124]. Так автор высмеивает «высокий романтизм» (идеализм) Зуровых.
Христианство и культура. Франты и джентльмены
Уже в начале 1840-х годов вырисовывается одна из стержневых проблем, определяющих своеобразие религиозной настроенности Гончарова. Это проблема внутренней соотнесенности религии и культуры, религии и цивилизации. Будущий романист к этому времени, очевидно, уже осознал бесперспективность всякого нравственного идеала вне религии, вне христианства. Размышления на эту тему должны были волновать его еще в Московском университете, на лекциях Н. И. Надеждина, С. П. Шевырева, М. П. Погодина и других ведущих профессоров. Там же, на студенческой скамье, в общих чертах определилось тяготение писателя к западным, либеральным ценностям. Однако эти ценности не заслонили от него традиционное личное Православие, в догмах и идеалах которого Гончаров никогда не сомневался. Вопрос встал для него в другом плане: как соединить «вечность» и «историю», личное традиционное верование, «веру отцов», с обретенными в университете понятиями и ценностями культуры и цивилизации. Это исходная точка всех его религиозных размышлений. Проблема эта должна была вновь обостренно осмысливаться им в общении с Майковыми и их литературным окружением. Она оказалась актуальна для духовных поисков русской интеллигенции в течение всего XIX века и с новой силой религиозного интеллектуального ренессанса вспыхнула в начале XX века.
Именно на таком «эстетическом» восприятии христианства — в его приложении к потребностям исторического творчества — и построены такие произведения Гончарова, как «Письма столичного друга к провинциальному жениху», «Обыкновенная история», «Фрегат „Паллада“». В 1840-е годы Гончаров начал своего рода эксперимент: попытку осмыслить культуру в свете христианства. Лишь искривление путей России в период революционно-демократического кризиса, а также личный опыт, полученный в период плавания на фрегате «Паллада», заставили его вскоре радикально переосмыслить свое мировоззрение. В 1860-е годы он уже понимал Православие прежде всего как хранилище нравственной и религиозной истины.
Прежде всего речь должна идти о таком его произведении, как «Письма столичного друга к провинциальному жениху». В нем публицистически ясно и очень концентрированно выражено то, что будет так или иначе воплощено во многих других произведениях Гончарова. Романист опубликовал «Письма…» в 11–12 номерах журнала «Современник» за 1848 год под псевдонимом А. Чельский[125]. Тот факт, что автор «Обыкновенной истории» не решился подписать свое собственное имя, а также то, что «Письма» были помещены в разделе «Моды», говорит, казалось бы, о второстепенном характере этого произведения. На самом деле Гончаров не просто выполняет некую черновую литературную работу (это период анонимного, но активного сотрудничества Гончарова с журналом, многие его произведения, опубликованные в «Современнике», до сих пор не установлены). Он по-прежнему, хотя и не в романной форме, занят главным: выработкой религиозно-нравственного идеала современного человека, и притом — европеизированного русского.
«Письма столичного друга к провинциальному жениху» являются в каком-то смысле программным произведением Гончарова, раскрывающим важнейшие стороны его мировоззрения. При этом следует отметить, что в дальнейшем писатель не включал его в свои собрания сочинений. Причину этого следует искать, видимо, в некоей незавершенности мысли, в «фельетонном» по духу характере «Писем». Однако идея, которую попытался в них выразить романист, была стержневой для его мировоззрения, в особенности для его мировоззрения 1840-х годов. В «Письмах» хотя и в фельетонной плоскости, но прямо ставился вопрос об идеале человека и назначении человеческой жизни. При этом Гончаров, как всегда, внешним образом не выходит на уровень религиозных понятий. Гончаров показывает лишь «культурные», «цивилизационные» следствия из правильно или неправильно понятых идеалов человеческой жизни. Однако самое любопытное заключается в том, что, не покидая чисто земной, общественно-социальной почвы, художник выстраивает нечто вроде духовной «лестницы». Этот метод, лишенный всякого патетического религиозного начала (что так свойственно, например, Ф. М. Достоевскому или Л. Н. Толстому), станет для него основным на протяжении всего его творчества. Анализ гончаровских романов доказывает, что хотя писатель и не говорит непосредственно о религии, нравственные проблемы человеческой жизни рассматриваются им в контексте именно религиозного концепта жизни. Но лишь в последнем романе он вынужден был нарушить свои художнические установки и «приоткрыть» завесу над своей художнической тайной. В «Обрыве» Гончаров уже прямо, как никогда ранее не делал, говорит о религии, о вере, о Боге.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гончаров и православие"
Книги похожие на "Гончаров и православие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Мельник - Гончаров и православие"
Отзывы читателей о книге "Гончаров и православие", комментарии и мнения людей о произведении.