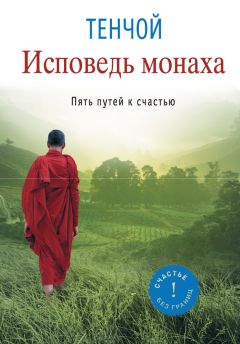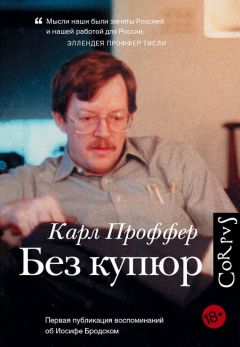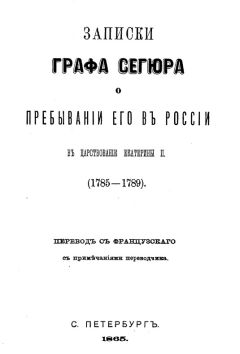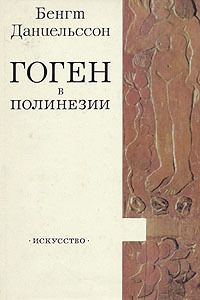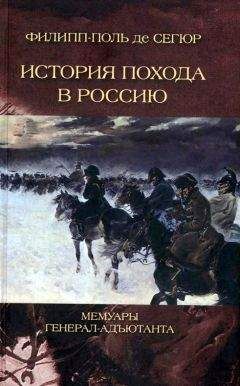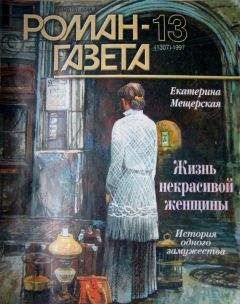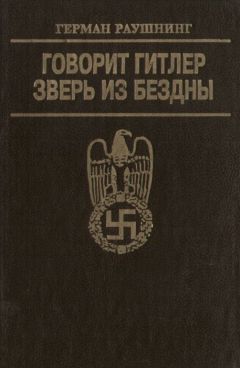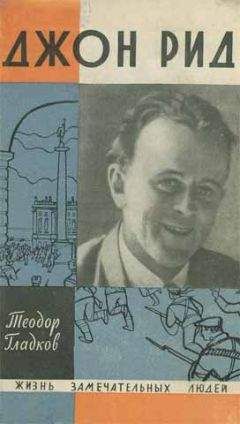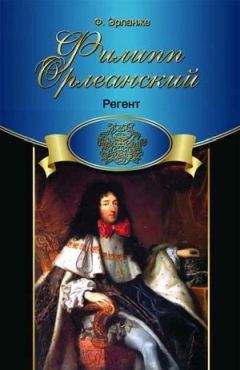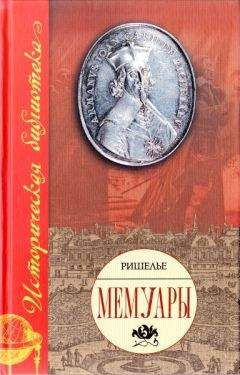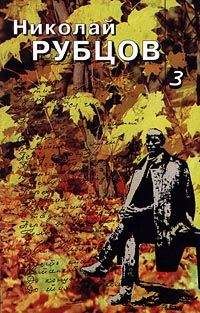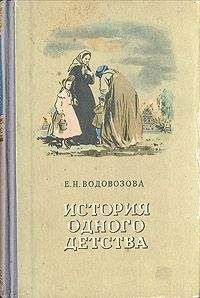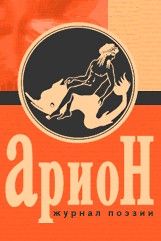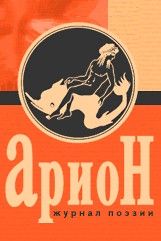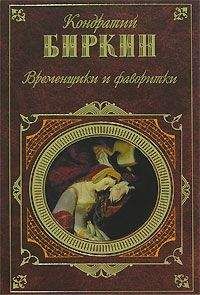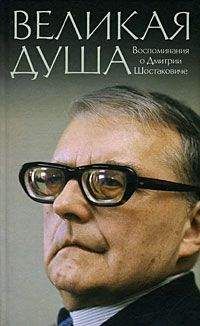Филипп де Коммин - Мемуары
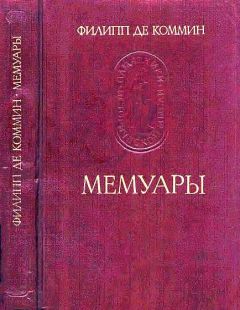
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мемуары"
Описание и краткое содержание "Мемуары" читать бесплатно онлайн.
Филипп де Коммин родился в 1447 году и происходил из фламандского рода. На службу к Карлу Смелому поступил в 1464 году. В 1467 году он был посвящён в рыцари. В этом же году он выбился в ближайшее окружение Карла Смелого и стал его доверенным советником. В 1472 году Филипп де Коммин перешёл на сторону Людовика XI. Работу над мемуарами Коммин начал в 1489 году по просьбе архиепископа Вьеннского Анджело Като. Воспоминания Коммина делятся на 2 части: первая состоит из 6 книг и охватывает правление Карла Смелого и Людовика XI, вторая состоит из 2 книг и посвящена итальянскому походу Карла VIII.
В XV в., как, впрочем, и на протяжении всего средневековья, ценность истории видели прежде всего в том, что она учит добродетельной жизни, доблести и отвращает от пороков. Так, бургундский дипломат и писатель Г. де Ланнуа в наставлениях сыну наряду с военными упражнениями предписывает чтение хроник древней истории и рекомендует ему: «Держи при себе книги по римской истории или хроники деяний предков и читай их с охотой, ибо в них сможешь многое узнать и по примерам из истории… будешь с честью вести себя во всех делах» [650]. Ту же мысль в отношении исторических сочинений проводит и французский религиозно-политический деятель и историк Т. Базен: «Когда люди их читают, они приобретают большие познания и понимают, что должны следовать честным и доблестным деяниям и избегать, осуждать и ненавидеть порочные и постыдные» [651].
Историческая литература – это «зеркало нравов». Читатель в ней должен искать нравственных поучений, а писатель, создавая ее, – именно эту цель иметь в виду. Французский хронист Жан д’Отон считал, например, что он писал свою хронику для того, чтобы «увековечить блестящее зрелиЩе достохвального труда достойных почести людей (французских рыцарей), чтобы их благие деяния послужили им самим во славу и стали бы примером… указующим путь чести для тех, кто пожелает следовать доблести» [652]о.
Не забудем, что в средние века смысл всякого познания видси главным образом в постижении нравственных ценностей и этика, говоря словами знаменитого мыслителя XIII в. Р. Бэкона, была «руководительницей и царицей всех остальных научных занятий». И хотя в XV в. появились новые взгляды на познание и его цели, господствующей все же оставалась старая этическая концепция. Она совершенно естественно вытекала из представлений о человеке и смысле человеческой жизни, в основе которых лежало христианское учение, ибо, как известно, «мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим» [653].
В литературе XV в. человек определялся как существо социальное в его нравственных отношениях с другими людьми и подлежащее нравственной оценке с точки зрения его способности и склонности к выбору между добром и злом. Доминирующей к концу средневековья стала точка зрения, в соответствии с которой человек обладает свободой воли и свободой выбора и разум – главное достояние человека, отличающее его от животных, – призван направлять его к добру. «Разум наставляет нас в том, что мы должны делать и чего избегать, о чем должны молчать или говорить, и, таким образом, он является щитом и заступником, предохраняющим нас от ежедневных поползновений дьвола и плоти», – говорит Г. де Ланнуа, выражая широко распространенное представление о разуме как источнике добродетели [654]. Оно прямо согласовывалось с понятиями о содержании и смысле человеческой жизни. В ее содержании особо выделялись труд и познание. Труд получал при этом двоякую, но отнюдь не противоречивую оценку: с одной стороны, он рассматривался как кара и наказание роду человеческому за грехопадение прародителей, а с другой – как необходимое средство искупления грехов и обретения надежды на посмертное спасение. Ту же самую цель преследовало с господствующей точки зрения и познание, в том числе и историческое. И высшая ступень знания, дававшая «мудрость», означала не что иное, как высокую степень нравственного совершенства человека: «Мудрость – это добродетель и как бы возница прочих добродетелей» [655].
Естественно, что в то же время существовало и представление о сугубо практическом знании и о мудрости как большой искусности в мирских делах, но в данной идеологической системе подобные знания и мудрость оценивались гораздо ниже, если не вовсе негативно, нежели знание и мудрость, несущие нравственное совершенство. Как говорит Т. Базен, «знание, не ведущее к справедливости, должно скорее называться хитроумием, чем знанием».[656]
Ведь в конечном итоге смысл человеческой жизни видели в спасении души, и перед этой высшей целью все остальные, земные цели обесценивались; поэтому «мудрый человек в этом преходящем мире должен заботиться о вечной душе, которой предстоит отвечать за деяния тела…» [657]. Нравственность, таким образом, в отличие от других достоинств, приобретала абсолютную ценность и была главным, если не единственным, критерием при оценке людей и их поступков, причем не только в перспективе смерти и божественного воздаяния. В земной жизни с ее практическими задачами она зачастую также ценилась выше способностей, обеспечивающих успех в мирских делах, ибо широко распространено было убеждение, что именно в награду за добродетели господь дарует победы и удачи в этой жизни. А если он и позволяет порочному человеку возвыситься, а добродетельному претерпеть унижение, то лишь затем, чтобы первого в назидание прочим низвергнуть потом с этой высоты, а второго возвысить или, к вящей его славе, вознаградить в будущей жизни.
Именно эта этическая концепция человеческого существования, преобладавшая во франко-бургундской литературе XV в., была отправной логической точкой развития социально-политических воззрений.
Организация общества чаще всего представлялась по старой трехчленной схеме, согласно которой оно делится на три сословия – духовенство, дворянство и народ. Третье сословие (термин появился на Генеральных штатах 1484 г.) иногда подразделялось на горожан, купцов и крестьян. Общество обычно изображалось в виде политического тела, и функции сословий уподоблялись функциям членов тела. Главная роль отводилась королю, дворянству и духовенству, которые, подобно верхним членам тела, управляют всем организмом, а народ, подобно ногам, поддерживает и носит тело. Труд крестьян и горожан считался, конечно, полезным и нужным для общества, но низменным, а сами они, «находящиеся в рабском состоянии», неспособными к осуществлению «высшего предназначения» человека в обществе [658].
Социальное устройство рассматривалось как часть мирового божественного порядка, и всякое сословие, человеческая группа (или мирская должность) понимались как элементы единого и нерушимого социального порядка. Категория порядка, одна из основополагающих социальных категорий, выражала не просто организационный принцип, но и его неизменность. Порядок, как считалось, достигается прежде всего тем, что каждый член общества выполняет предписанные ему обязанности и не пытается изменить их: «Пусть у каждого будет собственное назначение, чтобы тело (т. е. государство. – Ю. М.) было в хорошем состоянии, в спокойствии и благополучии. Потрясение этого порядка разрушило и погубило многие государства» [659]. Другим непременным условием порядка, социальной стабильности были союз, согласие и мир между различными сословиями и членами одного и того же сословия, ибо «мир и союз – самые необходимые вещи для королей и государств» [660]. При этом особо важное значение придавалось единению знати, междоусобицы которой Чаще всего нарушали мир и порядок. «Нет большего счастья для королевства, – пишет бургундский писатель Ж. Шатлен, – чем союз и согласие вельмож» [661].
Порядку, союзу, согласию и миру в социальной мысли той эпохи противостояли перемены, разногласия, раздоры и войны. Коль скоро социальный строй мыслился частью мирового божественного порядка и потому совершенным, то всякие перемены представлялись злом, ибо совершенное может меняться лишь в худшую сторону. Один из ораторов на Генеральных штатах 1484 г., обращаясь к королю, говорил: «Ради Вашего блага и блага королевства мы боимся… в первую очередь перемен», и свой страх он обосновывал тем, что «мирские дела меняются от одной крайности к другой и очень часто от хорошего состояния доходят до крайне плохого» [662]. Наибольшую опасность перемен видели в социальных пертурбациях, когда вместо выполнения своих обязанностей «одни занимают должности других», что равносильно тому, что «ноги, носящие голову, руки и туловище, перемещаются наверх, а голова вниз, отчего тело и все его члены теряют упорядоченность и естественное взаиморасположение».[663]
Социальная мысль, таким образом, была ориентирована на стабильность сущего и основную задачу, стоящую перед обществом, A. Bernier. P., 1833, p. 58. видела в обеспечении его устойчивости и неизменности путем предотвращения перемен, раздоров и войн. Путь к этой цели проходил через нравственное совершенствование всех членов общества, и именно в этом пункте социальная концепция тесно смыкалась с этической концепцией человеческой жизни. Все перемены и потрясения в обществе в конечном итоге объяснялись людскими пороками. Именно алчность, гордыня и зависть побуждают людей посягать на положение и собственность других. «Известно, что всякий человек, нападающий на другого, побуждается к тому гордыней, высокомерием, алчностью или завистью» [664]. Но если люди станут высоконравственными и «каждый без споров будет довольствоваться тем, что имеет» [665], тогда наступит мир и порядок, – словом, общество будет справедливым.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мемуары"
Книги похожие на "Мемуары" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Филипп де Коммин - Мемуары"
Отзывы читателей о книге "Мемуары", комментарии и мнения людей о произведении.