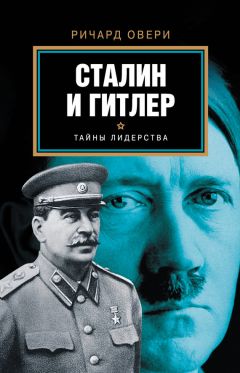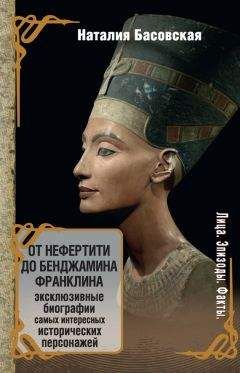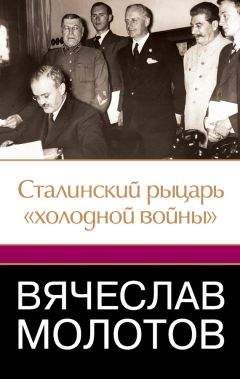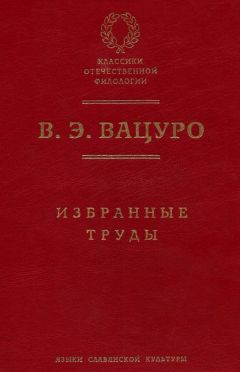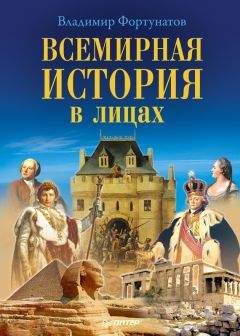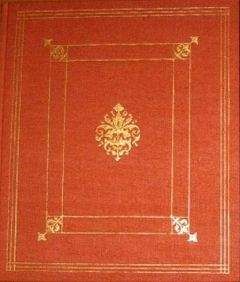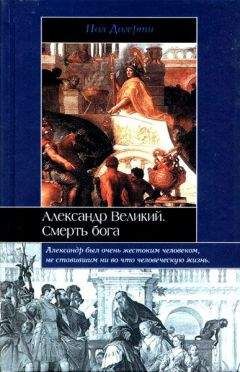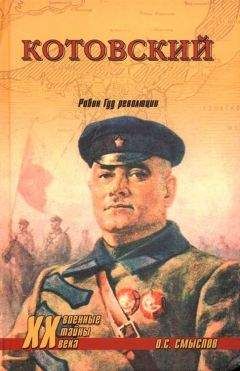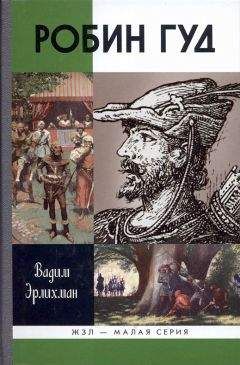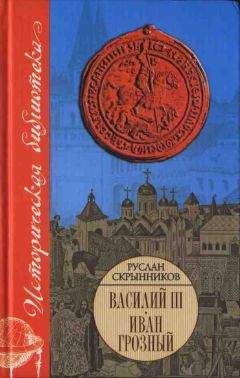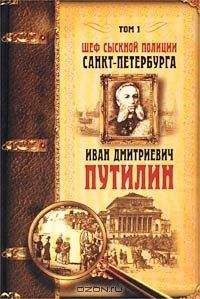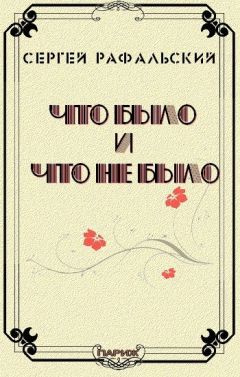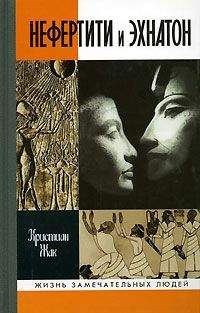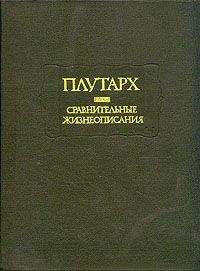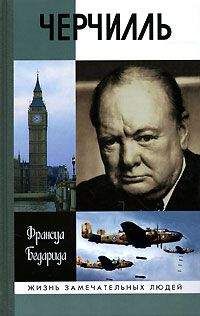Робин Коллингвуд - Идея истории
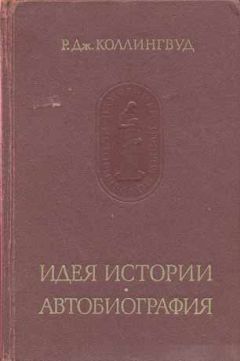
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Идея истории"
Описание и краткое содержание "Идея истории" читать бесплатно онлайн.
Как продукты воображения, работы историка и романиста нисколько не отличаются. В чём они различаются, так это в том, что картина, созданная историком, имеет в виду быть истинной.
(Р. Дж. Коллингвуд)
Существующая ныне история зародилась почти четыре тысячи лет назад в Западной Азии и Европе. Как это произошло? Каковы стадии формирования того, что мы называем историей? В чем суть исторического познания, чему оно служит? На эти и другие вопросы предлагает свои ответы крупнейший британский философ, историк и археолог Робин Джордж Коллингвуд (1889—1943) в знаменитом исследовании «Идея истории» (The Idea of History).
Коллингвуд обосновывает свою философскую позицию тем, что, в отличие от естествознания, описывающего в форме законов природы внешнюю сторону событий, историк всегда имеет дело с человеческим действием, для адекватного понимания которого необходимо понять мысль исторического деятеля, совершившего данное действие. «Исторический процесс сам по себе есть процесс мысли, и он существует лишь в той мере, в какой сознание, участвующее в нём, осознаёт себя его частью». Содержание I—IV-й частей работы посвящено историографии философского осмысления истории. Причём, помимо классических трудов историков и философов прошлого, автор подробно разбирает в IV-й части взгляды на философию истории современных ему мыслителей Англии, Германии, Франции и Италии. В V-й части — «Эпилегомены» — он предлагает собственное исследование проблем исторической науки (роли воображения и доказательства, предмета истории, истории и свободы, применимости понятия прогресса к истории).
Согласно концепции Коллингвуда, опиравшегося на идеи Гегеля, истина не открывается сразу и целиком, а вырабатывается постепенно, созревает во времени и развивается, так что противоположность истины и заблуждения становится относительной. Новое воззрение не отбрасывает старое, как негодный хлам, а сохраняет в старом все жизнеспособное, продолжая тем самым его бытие в ином контексте и в изменившихся условиях. То, что отживает и отбрасывается в ходе исторического развития, составляет заблуждение прошлого, а то, что сохраняется в настоящем, образует его (прошлого) истину. Но и сегодняшняя истина подвластна общему закону развития, ей тоже суждено претерпеть в будущем беспощадную ревизию, многое утратить и возродиться в сильно изменённом, чтоб не сказать неузнаваемом, виде. Философия призвана резюмировать ход исторического процесса, систематизировать и объединять ранее обнаружившиеся точки зрения во все более богатую и гармоническую картину мира. Специфика истории по Коллингвуду заключается в парадоксальном слиянии свойств искусства и науки, образующем «нечто третье» — историческое сознание как особую «самодовлеющую, самоопределющуюся и самообосновывающую форму мысли».
До этого момента их аргументация была вполне основательной, но позитивистские постулаты их мышления становились очевидными, как только они заявляли, что в состоянии показать: а) что это воскресение не могло произойти, б) что люди, верившие в него, имели бы достаточные основания верить в него даже в том случае, если бы его никогда не было. а) Оно не могло произойти, доказывали они, потому что это — чудо, а чудо — нарушение законов природы; законы природы открываются наукой, поэтому весь престиж и авторитет науки поставлен на карту и зависит от доказательства того, что воскресения не было. б) Но ранние христиане не обладали научным складом ума; они жили в духовной атмосфере, в которой различия между возможным и невозможным вообще нельзя было провести; каждый человек в те времена верил в чудеса; вот почему так естественно было тогда, что их фантазия придумала чудеса, подобные чуду воскресения, чудеса, столь лестные для их собственной церкви и покрывающие такой славой ее основателя.
В результате эти критики, не питая ни малейших антирелигиозных или антихристианских предубеждений, скорее, наоборот, стремясь основать свою христианскую веру только на прочной основе критически установленных исторических фактов, принялись переписывать повествования Нового завета, выбрасывая из них все элементы чудесного. Сначала они не понимали, как далеко в критике истоков христианства заведет их та скептическая позиция, которую они заняли. Но очень скоро они встали перед проблемой: если из Нового завета выбросить все чудесное, все, отмеченное той же самой печатью сверхъестественного, то что же тогда останется? Если следовать этому критическому подходу, то первые христиане включили в Новый завет чудеса потому, что были не научно мыслящими, а доверчивыми людьми с богатым воображением. Однако это обстоятельство ставило под сомнение не только их свидетельство о чудесах, но и все их рассказы вообще. Почему тогда мы должны верить, что Иисус Христос вообще когда-либо жил? Из всего Нового завета, доказывали самые крайние из этих критиков, можно сделать только один вполне достоверный вывод, что люди, написавшие его, когда-то жили и были людьми того типа, который отразился в их произведении, а именно сектой евреев со странными верованиями; определенная же совокупность обстоятельств подняла постепенно эту секту до религиозного владычества над всем римским миром. Радикальный исторический скептицизм вырос не из самого применения критических методов, но из сочетания этих методов с некритически и бессознательно воспринятыми постулатами позитивизма.
Это положение и лежит в основе работы Брэдли. Вместо того чтобы занять ту или другую сторону в дискуссии, бушевавшей вокруг конечных выводов этих представителей критической теологии, он поставил задачу философского исследования их методов и тех принципов, на которых они основываются. Он начинает с констатации того факта, что критическая история существует и что всякая история в определенной мере критична, так как ни один историк не повторяет свидетельств своих источников в той самой форме, в которой он их находит. «Критическая история» тогда должна располагать некоторым «критерием оценки», и совершенно очевидно, что этим критерием может быть только сам критик. Способ обработки им источников будет и должен зависеть от того, что он привносит в их изучение. Но историк — человек, обладающий собственным опытом; он испытывает на себе влияние мира, в котором живет, и именно этот опыт он и привносит в истолкование исторических свидетельств. Он не может быть просто чистым зеркалом, отражающим свидетельства его источников; до тех пор пока он не проявит усилий и не потрудится над их истолкованием, источники ничего ему не скажут, ибо сами по себе они не более чем «куча несогласованных свидетельств, хаос разрозненных и противоречивых преданий». Что он сделает из этого сумбура данных, зависит от того, чем он сам является, т. е. от всего того опыта, который он привносит в свою работу. Но и данные, с которыми он должен иметь дело, сами состоят из свидетельств, т. е. утверждений различных людей, и поскольку они претендуют на то, чтобы быть утверждениями об объективных фактах, а не просто описаниями субъективных переживаний, они содержат в себе оценки и логические выводы и подвержены ошибкам. Критический историк должен решить, судили ли люди, свидетельствами которых в том или ином случае он пользуется, правильно или ошибочно. Это решение он должен принять, исходя из собственного опыта. Его опыт и говорит ему, какие события могли произойти, и является тем самым критерием, с помощью которого он оценивает достоверность свидетельств.
Критическая ситуация наступает тогда, когда источник сообщает ему о факте, не имеющем никаких аналогий с опытом самого историка. Может ли он верить ему, или же ему следует отбросить эту часть исторического свидетельства? Брэдли отвечает, что если в нашем собственном опыте мы сталкиваемся с фактом, совершенно непохожим на то, с чем имели дело до сих пор, то мы будем иметь право верить в его реальность только после того, как проверим его «с помощью максимально тщательного и несколько раз повторяющегося исследования». Это — единственное условие, при котором я могу верить такому факту или свидетельству: я должен быть уверен, что свидетель — такой же добросовестный наблюдатель, как и я, и что он тоже проверил свои наблюдения тем же самым способом. В этом случае «его суждение будет точно таким же, как мое». Иными словами, он не должен позволять, чтобы религиозные или иные взгляды на мир, которые я не разделяю, влияли бы на его представления о том, что произошло, ибо в противном случае его суждения не могут быть тождественны моим; он должен затратить столько же усилий, для того чтобы установить реальность факта, сколько и я. Но в истории эти условия едва ли выполнимы, ибо очевидец — всегда сын своего времени, а простой прогресс знаний делает невозможным, чтобы его точка зрения и нормативы точности были аналогичны моим. Следовательно, никакое историческое свидетельство не может установить реальность фактов, не имеющих аналогии в нашем современном опыте. Все, что мы можем сделать в тех случаях, когда поиск этой аналогии будет безрезультатен, так это принять свидетельство очевидца за ошибку и рассматривать эту ошибку как исторический факт, сам подлежащий объяснению. Иногда мы можем умозаключить, каков в действительности был факт, о котором он рассказал нам с такими ошибками, иногда же — нет, и здесь мы можем утверждать лишь одно: определенное свидетельство о факте существует, но в нашем распоряжении нет никаких данных для реконструкции самого факта.
Такова была вкратце точка зрения Брэдли. Она настолько богата и настолько глубоко проникает в суть вопроса, что было бы несправедливостью по отношению к ней ограничиться короткими комментариями. Но я попытаюсь отделить те ее положения, которые представляются вполне правомерными, от положений менее обоснованных.
Говоря о ее достоинствах, необходимо отметить, что Брэдли совершенно прав, считая историческое знание не простым принятием свидетельств, а их критической интерпретацией; он прав и в том, что эта критика предполагает наличие какого-то критерия достоверности, являющегося чем-то таким, что историк привносит с собой в свою работу по объяснению фактов, т. е., говоря иначе, этим критерием оказывается сам историк. Брэдли прав, отождествляя принятие свидетельства истериком со своеобразным актом превращения мышления очевидца событий в мышление историка с воспроизведением его мысли в сознании историка. Например, если очевидец говорит, что Цезарь был убит, и я принимаю его утверждение, то мое собственное суждение: «Этот человек прав, говоря, что Цезарь был убит», — с логической необходимостью приводит к моему собственному утверждению: «Цезарь был убит». Последнее же эквивалентно первоначальному утверждению очевидца. Брэдли, однако, не делает последнего шага, не понимая, что историк воспроизводит в своем сознании не только мысли очевидца, но и мысли исторического деятеля, о действиях которого сообщает очевидец.
Ошибки же у него возникают, я полагаю, в его учении об отношении критерия достоверности, применяемого историком к тому, к чему он его применяет. Брэдли считает, что историк приступает к своей работе, имея совершенно законченный опыт, основываясь на котором он и оценивает сведения, содержащиеся в его источниках. Так как этот опыт понимается Брэдли как законченный, то он не может быть видоизменен собственной деятельностью историка как историка: историк должен им располагать, и располагать в законченной форме, до того как он приступит к своему историческому исследованию. Следовательно, этот опыт рассматривается Брэдли как опыт, базирующийся не на историческом знании, а на знании какого-то другого рода. И действительно, для Брэдли это — естественнонаучное знание, знание законов природы. Именно здесь господствующий позитивизм его времени начинает заражать его мысли. Он считает естественнонаучные познания историка тем средством, с помощью которого он проводит различие между тем, что может произойти, и тем, что не может. И это естественнонаучное познание он понимает позитивистски, основывая его на индуктивных обобщениях наблюдаемых фактов по принципу, что будущее будет похоже на прошлое, а неизвестное — на известное.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Идея истории"
Книги похожие на "Идея истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Робин Коллингвуд - Идея истории"
Отзывы читателей о книге "Идея истории", комментарии и мнения людей о произведении.