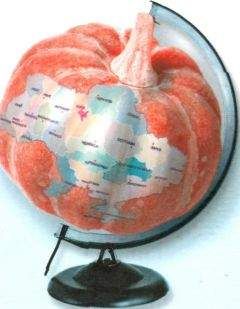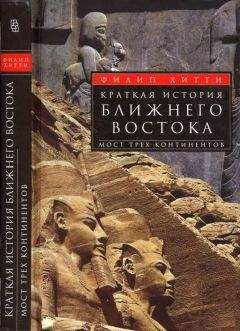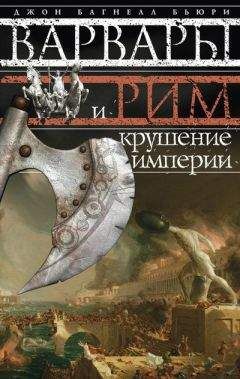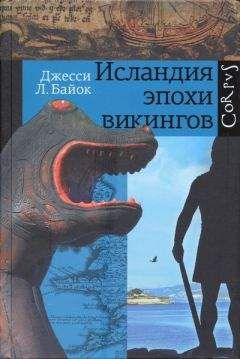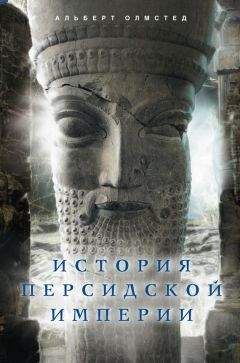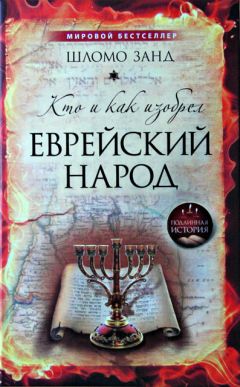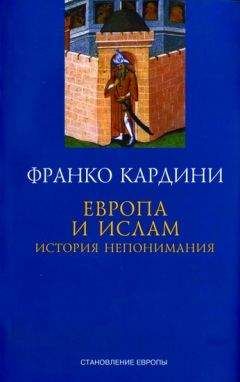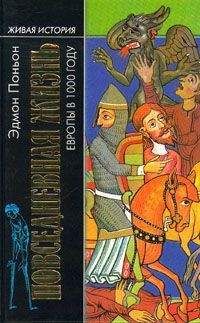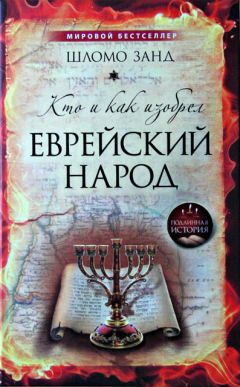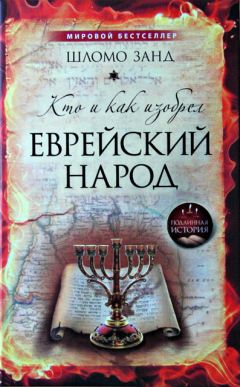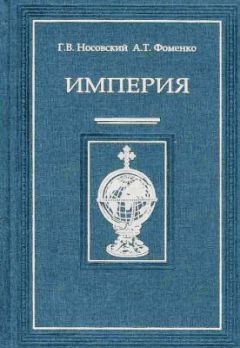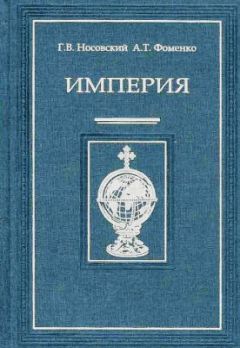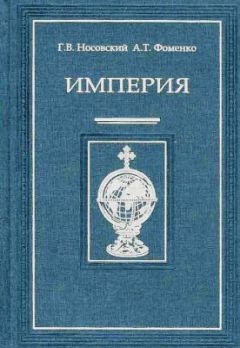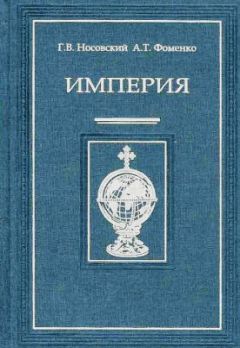Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.
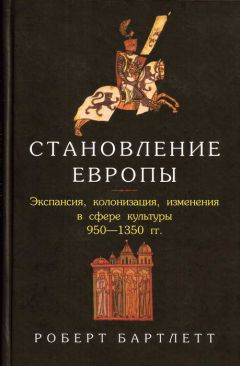
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Описание и краткое содержание "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг." читать бесплатно онлайн.
Роберт Бартлетт — профессор-медиевист в Университете Сент-Эндрю. До 1992 года был профессором истории средних веков Чикагского университета, а ранее преподавал в Эдинбургском университете. Он получал образование в университетах Кембриджа, Оксфорда и Принстона, занимался исследовательской работой в Мичиганском университете, научных центрах Принстонского университета — Институте углубленных исследований и Центре Шелби Каллом Дэвис, а также в Геттингенском университете. Среди более ранних публикаций — труды Gerald of Wales, 1146-1223: Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal; Medieval Frontier Societies (в качестве соредактора).
Профессор Бартлетт женат, имеет двух детей.
Книга «Становление Европы» в 1993 году удостоена Вульфсоновской премии по истории.
Ситуация на восточных границах Германского королевства ясно показывает, что и в отсутствие централизованного руководства экспансия вполне могла быть успешной. В XII–XIII веках завоевание и колонизация практически удвоили сферу немецкого присутствия и политического влияния. Участие германских королей в этом процессе было минимальным. В X веке наоборот, успех территориальной экспансии на восточных границах обеспечило полновесное участие со стороны правящей династии Отгонов. В этот, более ранний, период главным залогом успеха рискованного завоевательного похода становилась концентрация ресурсов под монаршим руководством. В Высокое Средневековье продвижение немецких феодалов и поселенцев в глубь Восточной Европы проходило под водительством сразу нескольких лидеров.
В действительности усиление некоторых ведущих королевств Западной Европы, наблюдавшееся на рубеже XIV века, фактически несколько затормозило экспансию католической Европы. В XI–XII веках аморфные вооруженные стычки локального значения сохраняли массу энергии, то есть людской силы, ресурсов и политической воли, для кампаний, направленных вовне франкского мира. К XIII столетию крупные державы уже стремились к монопольному осуществлению своих агрессивных замыслов и подчас главные свои усилия направляли друг на друга, нежели на внешнюю территориальную экспансию, хотя их могущество намного превосходило мощь королевств предшествующего периода. Карл Анжуйский, чьи далеко идущие притязания на господство реализовались в Сицилии, Морее и Иерусалимском королевстве, оказался по сути чересчур занят борьбой со своими западными соперниками, чтобы стать опорой католическим государствам восточного Средиземноморья. Когда в 1291 году Утремер окончательно пал под ударами мусульман, две великие державы, Франция и Арагон, схватились в смертельной битве за господство. Французский король Филипп Красивый был самым могущественным правителем христианского мира, однако он никак не стремился к экспансии этого мира. Пример его современника Эдуарда I Английского, чье завоевание Уэльса и включение его в состав королевства можно рассматривать как заключительный аккорд англо-нормандской экспансии в этой части кельтского мира, показывает, что в тех случаях, когда крупные унитарные государства XII–XIV столетия действительно концентрировали усилия на экспансии, они могли добиваться сокрушительных по своей эффективности результатов. Однако более типичной для того периода оказалась нескончаемая борьба между западноевропейскими державами, получившая название Столетней войны.
Таким образом, не аппарат королевской власти, а консорциум рыцарства, духовенства и купечества стал главным инструментом экспансионистского движения XI–XII веков в его наиболее типичных формах. Классическим случаем предприятия, осуществленного таким консорциумом, был крестовый поход в Восточном Средиземноморье. Политическая карта Леванта в XII–XIII веках претерпела изменения не в силу искусства государственного управления, явленного королем или императором, а благодаря своеобразному объединению усилий западных феодалов и рыцарей, независимого и послушного Риму духовенства и итальянского купечества, различавшихся не только происхождением и положением в обществе, но и своими побудительными мотивами. Современники рисовали армии первого крестового похода как воинство «без господина и без князя», сражавшееся «без короля и без императора»{1016}. Однако создание Утремера явилось самым поразительным примером того, как воины-аристократы, клерикальная элита и городское купечество латинского Запада умели объединять свои силы, подчас безо всякого монаршего руководства, в деле создания новых государственных образований и новых поселений. Колонизация Восточной Прибалтики дает пример рождения совершенно новой общественно-политической модели — так называемого Орденштата (то есть «Орденского государства») — в результате деятельности немецких купцов и миссионеров, жадных до земли феодалов и крестьян, руководимой и направляемой властью одного из международных военных орденов.
Интересы рыцарства, купечества, крестьянства и духовенства, которые могли входить или не входить в состав таких союзов, конечно, не всегда совпадали. В языческой Восточной Европе миссионерское духовенство поднимало свой голос против чрезмерной алчности и беспощадности светских завоевателей, чья неуемная жадность и жестокость вызывали у коренного населения лишь протест против обращения в христианство, не оставляя шанса для мирного совершения крещения. Тевтонские рыцари могли торжественно сообщать немецким купцам, как они «сражались за расширение нашей веры и вашей торговли»{1017}, однако соотношение коммерческих интересов крестоносцев с общими задачами их движения в каждом конкретном случае принимало иную форму, так что эта взаимосвязь могла быть не только взаимовыгодной, но и взаиморазрушающей. Недвусмысленным примером служат неоднократные и тщетные попытки папы римского запретить итальянским купцам продавать военное снаряжение в исламские страны. К примеру, Александрия была не только крупным мусульманским центром, но и одним из крупнейших торговых городов Средиземноморья. И венецианский, генуэзский или пизанский торговец едва ли стал бы участвовать в ее разграблении заодно с франкскими рыцарями — скорее он предпочел бы вести там торговлю под защитой мусульманского правителя. Зачастую франкские рыцари восточного Средиземноморья не могли похвастать независимостью или каким-то влиянием в отношении итальянских купцов, контролировавших их морские перевозки. В 1298 году в ответ на жалобу одного венецианского купца, что он был ограблен каким-то генуэзцем, кипрский король возразил, что «не вмешивается в отношения генуэзцев и венецианцев»{1018}. Со стороны этого франка-крестоносца было весьма дальновидно держаться в стороне от каких бы то ни было конфликтов между итальянскими купцами.
Отсутствие идейно-политического руководства в колониальных предприятиях подтверждается не только выдающейся ролью названных нами эклектичных союзов, ставших по сути агентами экспансии, но также явственной природой тех форм, в каких эта экспансия осуществлялась. За исключением Ирландии — которую, пожалуй, можно было бы назвать колонией в современном смысле — центробежное движение эпохи Средних веков никогда не имело своим следствием долговременное политическое подчинение одного региона другому. Королевство Валенсия, Иерусалимское королевство и владения Тевтонских рыцарей в Пруссии и Ливонии были не зависимыми территориями под властью западных или центральноевропейских держав, а их самостоятельными копиями. Легкость, с какой рождались, не будучи им подчинены, слепки с существующих государств в виде «новых колоний святого христианства», проистекала прежде всего из самого факта существования на латинском Западе интернациональных клише, матриц, которые могли тиражироваться совершенно независимо от базовой политической модели.
Нарастание экспансии и углубление культурного единообразия латинского Запада в эпоху X–XIII веков отчасти было связано с развитием в Западной Европе правовых и институциональных моделей, которые легко переносились и адаптировались к иным условиям, сохраняя устойчивость к внешнему воздействию. Видоизменяясь и выживая, эти слепки, в свою очередь, преобразовывали и сами условия своего нового существования. Поддающиеся классификации схемы, такие, как инкорпорированный город, университет и международный религиозный орден, сформировались на Западе именно в период между серединой XI и началом XIII веков. Можно предположить, что многие составляющие их элементы существовали и прежде, но не были «скомпонованы» или взаимосвязаны так, как это случилось теперь. Сплав монастырского устава и рыцарского этоса породил военный орден; освобождение от податей и рынок вызвали к жизни свободный город; духовенство и гильдии дали жизнь университету. Общими для этих форм были их единообразие и способность к воспроизведению. Они стали своеобразными векторами экспансии, поскольку могли создаваться и процветать где угодно. Они показывают, как поддающаяся кодификации и трансплантации модель становилась переносчиком новых форм социальной организации по всей Европе независимо от централизованной политической тенденции. Эти формы, в свою очередь, были идеальным инструментом для тех светско-церковных союзов, о которых шла речь.
Эти социальные формы имели две жизненно важные особенности: они были конституированы и интернациональны по характеру, причем между этими чертами усматривалась взаимосвязь. Благодаря своему правовому оформлению эти социальные структуры поддавались кодификации и могли переноситься в другие, подчас чуждые условия и сохраняться там в силу известной независимости от внешних обстоятельств. Город, как следовало из бесчисленных городских хартий, штатрехте и фуэрос, представлял собой схему, комплекс определенных норм, которые вполне можно было адаптировать к местным условиям, не растворяя в них до неузнаваемости. Как отмечалось в Главе 7, германский городской закон являл модель для городов, расположенных далеко в глубине Восточной Европы, нормандские обычаи переносились в Уэльс, а фуэрос католической Испании утверждались в городах Реконкисты. Подобно городам, свои нормативные и специфические особенности имели и новые монашеские ордена XII века. По сравнению с их клюнийскими предшественниками цистерцианцы вышли на новый уровень правовой регламентации всей жизни ордена и организации международного масштаба. Цистерцианская монастырская система связывала в единую сеть сотни религиозных общин от Ирландии до Палестины. Как и в случае самоуправляемого города, новые ячейки цистерцианского братства воспроизводились с уверенностью в том, что они не только сумеют адаптироваться к среде, но и будут ее менять. В этом и заключалась формула победоносной экспансии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Книги похожие на "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Отзывы читателей о книге "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.