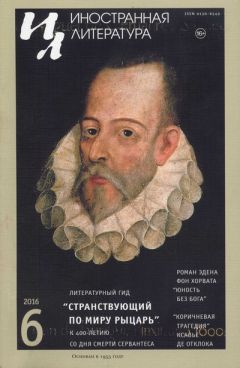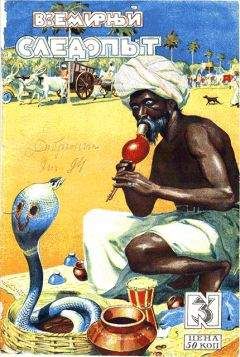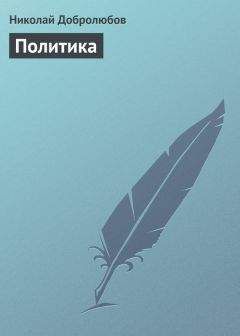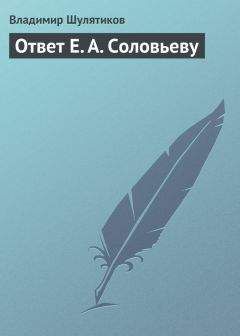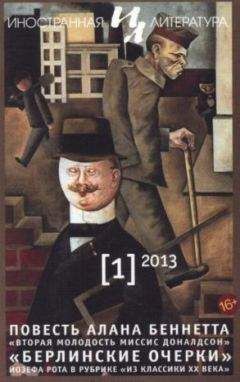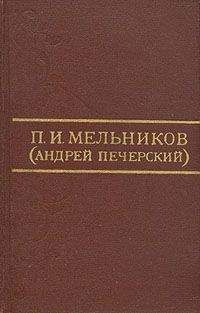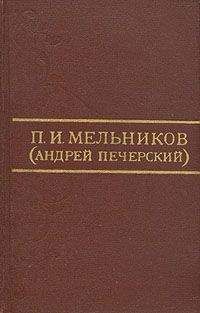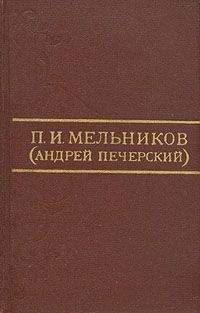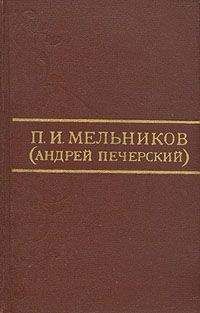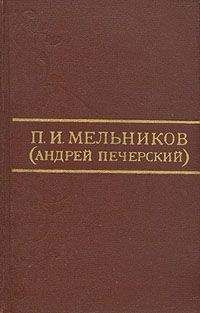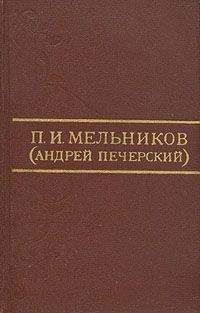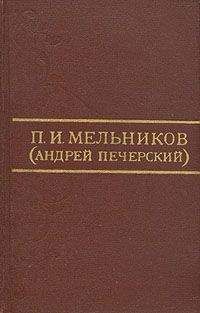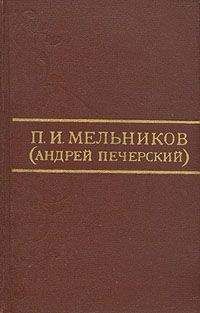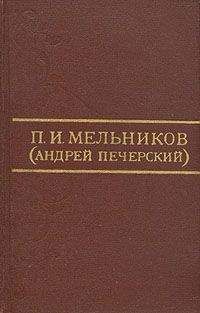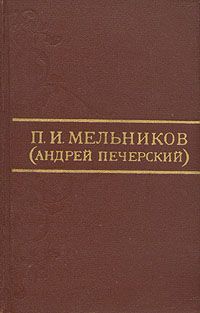Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
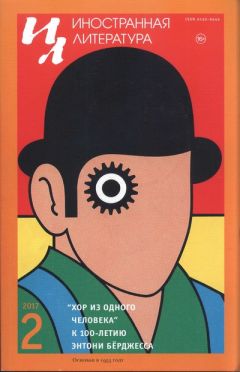
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса"
Описание и краткое содержание "Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса" читать бесплатно онлайн.
Во вступительной заметке «В тени „Заводного апельсина“» составитель специального номера, критик и филолог Николай Мельников пишет, среди прочего, что предлагаемые вниманию читателя роман «Право на ответ» и рассказ «Встреча в Вальядолиде» по своим художественным достоинствам не уступают знаменитому «Заводному апельсину», снискавшему автору мировую известность благодаря экранизации, и что Энтони Бёрджесс (1917–1993), «из тех писателей, кто проигрывает в „Полном собрании сочинений“ и выигрывает в „Избранном“…»,
«ИЛ» надеется внести свою скромную лепту в русское избранное выдающегося английского писателя.
Итак, роман «Право на ответ» (1960) в переводе Елены Калявиной. Главный герой — повидавший виды средний руки бизнесмен, бывающий на родине, в провинциальном английском городке, лишь от случая к случаю. В очередной такой приезд герой становится свидетелем, а постепенно и участником трагикомических событий, замешанных на игре в адюльтер, в которую поначалу вовлечены две супружеские пары. Роман написан с юмором, самым непринужденным: «За месяц моего отсутствия отец состарился больше, чем на месяц…»
В рассказе «Встреча в Вальядолиде» описывается вымышленное знакомство Сервантеса с Шекспиром, оказавшимся в Испании с театральной труппой, чьи гастроли были приурочены к заключению мирного договора между Британией и Испанией. Перевод А. Авербуха. Два гения были современниками, и желание познакомить их, хотя бы и спустя 400 лет вполне понятно. Вот, например, несколько строк из стихотворения В. Набокова «Шекспир»:
В рубрике «Документальная проза» — фрагмент автобиографии Энтони Бёрджесса «Твое время прошло» в переводе Валерии Бернацкой. Этой исповеди веришь, не только потому, что автор признается в слабостях, которые принято скрывать, но и потому что на каждой странице воспоминаний — работа, работа, работа, а праздность, кажется, перекочевала на страницы многочисленных сочинений писателя. Впрочем, описана и короткая туристическая поездка с женой в СССР, и впечатления Энтони Бёрджесса от нашего отечества, как говорится, суровы, но справедливы.
В рубрике «Статьи, эссе» перед нами Э. Бёрджесс-эссеист. В очерке «Успех» (перевод Виктора Голышева) писатель строго судит успех вообще и собственный в частности: «Успех — это подобие смертного приговора», «… успех вызывает депрессию», «Если что и открыл мне успех — то размеры моей неудачи». Так же любопытны по мысли и языку эссе «Британский характер» (перевод В. Голышева) и приуроченная к круглой дате со дня смерти статьи английского классика статья «Джеймс Джойс: пятьдесят лет спустя» (перевод Анны Курт).
Рубрика «Интервью». «Исследуя закоулки сознания» — так называется большое, содержательное и немного сердитое интервью Энтони Бёрджесса Джону Каллинэну в переводе Светланы Силаковой. Вот несколько цитат из него, чтобы дать представление о тональности монолога: «Писал я много, потому что платили мне мало»; «Приемы Джойса невозможно применять, не будучи Джойсом. Техника неотделима от материала»; «Все мои романы… задуманы, можно сказать, как серьезные развлечения…»; «Литература ищет правду, а правда и добродетель — разные вещи»; «Все, что мы можем делать — это беспрерывно досаждать своему правительству… взять недоверчивость за обычай». И, наконец: «…если бы у меня завелось достаточно денег, я на следующий же день бросил бы литературу».
В рубрике «Писатель в зеркале критики» — хвалебные и бранные отклики видных английских и американских авторов на сочинения Энтони Бёрджесса.
Гренвилл Хикс, Питер Акройд, Мартин Эмис, Пол Теру, Анатоль Бруайар в переводе Николая Мельникова, и Гор Видал в переводе Валерии Бернацкой.
А в заключение номера — «Среди книг с Энтони Бёрджессом». Три рецензии: на роман Джона Барта «Козлоюноша», на монографию Эндрю Филда «Набоков: его жизнь в искусстве» и на роман Уильяма Берроуза «Города красной ночи». Перевод Анны Курт.
— Вы говорили, что вы — «автор серьезной прозы, пытающийся расширить спектр тем, которые доступны художественной литературе». Каким образом вы пытались это сделать?
— Я писал об агонии Британской империи, уборных, структурализме и тому подобном, но, кажется, в момент, когда я сделал это заявление, я подразумевал кое-что другое. Я подразумевал изменение мировосприятия британского романа, и, возможно, мне удалось его изменить, самую чуточку. Новые области, которые открылись, — скорее технические, чем тематические.
— В «Романе сегодня» вы написали, что роман — единственная значительная литературная форма, которая у нас осталась. Почему вы в этом убеждены?
— Да, роман — единственная из крупных литературных форм, которая у нас осталась. Роман способен содержать в себе другие, менее масштабные литературные формы, от пьесы до лирического стихотворения. Поэты вполне преуспевают, особенно в Америке, но им не дается умение систематизировать, которое когда-то стояло за эпической поэмой (кстати, в наше время роман — ее замена). Краткого, резкого выброса энергии — не только в поэзии, но и в музыке — недостаточно. Монополия на форму сегодня принадлежит роману.
— Признаем за романом это определенное превосходство, но тревожно, что в целом продажи романов снижаются, общество больше интересуется нехудожественной литературой. Не посещает ли вас искушение уделять больше времени, например, жанру биографии?
— Я продолжу сочинять романы и буду надеяться, что мне перепадут небольшие гонорары на стороне. Писать биографии — тяжелейшая работа, в ней нет места вымыслу. Но будь я сейчас молод, я даже не мечтал бы сделаться профессиональным писателем. И все же однажды, возможно в скором времени, люди заново осознают, что чтение про вымышленных персонажей и их приключения — самое большое удовольствие в жизни. Или, возможно, второе по силе удовольствие.
— А первое — какое?
— Ну, это смотря по вашим личным вкусам.
— Почему вы сожалеете о том, что стали профессиональным писателем?
— По моему мнению, умственное напряжение, нервотрепка, знаете ли, сомнения в себе — все это вряд ли стоит свеч; муки творчества, чувство, что ты в долгу перед своей музой, — вся эта всячина складывается в бремя, с которым невозможно жить.
— Значит, в наше время гораздо сложнее прокормиться качественной художественной литературой?
— Не знаю. Я лишь знаю, что чем старше становлюсь, тем больше мне хочется иметь на жизнь, а возможностей все меньше. Наверно, я не хотел бы приковать себя к какой-то форме искусства; самоутверждение через некую форму искусства превращает тебя в кого-то вроде Франкенштейна — ты, так сказать, создаешь монстра. Мне бы хотелось жить беззаботно, я сам жалею, что меня снедает чувство долга перед искусством. Больше всего мне хотелось бы отвертеться от необходимости писать кое-какие романы — те, которые должны быть написаны, потому что никто другой их не напишет. Мне бы хотелось иметь больше свободы, свободу я люблю; и, наверно, я был бы гораздо счастливее, будь я чиновником в колониях, иногда пишущим романы на досуге. Тогда, зарабатывая на жизнь не писательством, я был бы счастливее профессионального литератора.
— Как экранизация меняет судьбу романа — к лучшему или к худшему?
— Фильмы меняют судьбу романов к лучшему, я на это смотрю с досадой и признательностью одновременно. По милости Стэнли, дешевое издание моего «Заводного апельсина» разошлось в Америке более чем миллионным тиражом. Но мне не нравится, когда я обязан своим благоденствием всего лишь кинорежиссеру. Я хочу пробиться наверх исключительно благодаря литературе. А это, естественно, невозможно.
— Вы отмечали, что ваш первый роман «Вид на крепостную стену» — это, «как и все истории, написанные мной с тех пор, медленное и жестокое вынужденное освобождение от иллюзий», и все же вас часто называют автором комедийных произведений. Значит, комедии присуща жестокость? Или вы считаете себя скорее сатириком?
— Комедия стремится к истине никак не меньше, чем трагедия; а у них обеих, как осознал Платон, есть общая основополагающая черта. И трагедия, и комедия — процесс срывания покровов; и трагедия, и комедия срывают с человека все внешнее и выставляют на обозрение тот факт, что он — «бедное двуногое животное»[235]. Сатира — специфический вид комедии, она имеет дело с определенными областями поведения, а не с человеческим бытием в целом. Я не считаю себя сатириком.
— То, что вы пишете, — черный юмор? Или все эти категории вас слишком сковывают?
— Думаю, я автор комедийных произведений malgré moi[236]. Наполеон получился у меня комическим персонажем, что определенно не входило в мои намерения. Что такое «черный юмор», я, наверно, даже не знаю. Сатирик? Сатира — жанр трудный, эфемерный, если только сама форма не отличается колоссальной живучестью, как в «Авессаломе и Ахитофеле», «Сказке о бочке», «Скотном дворе»: я имею в виду, что произведение должно существовать само по себе, как образец прозы или поэзии, даже когда объекты сатиры позабыты. Теперь сатира — элемент каких-то других форм, а не отдельная форма. Мне нравится, когда меня называют просто романистом.
— Лет десять назад вы написали, что считаете себя пессимистом, но полагаете, что «мир может предложить много утешений: любовь, еда, музыка, бесконечное разнообразие народов и языков, литература, удовольствие от художественного творчества». Сегодня ваш список спасительных радостей выглядел бы так же?
— Да, ничего не изменилось.
— Жорж Сименон, еще один профессиональный писатель, говорил: «Писатель — это не профессия, а призвание, обрекающее на несчастную жизнь. Не думаю, что художник может быть счастлив». Как, по-вашему, это правда?
— Да, Сименон прав. На днях мой восьмилетний сын спросил: «Папа, а почему ты не пишешь ради удовольствия?». Даже он догадался, что дело, которым я занимаюсь, доводит до раздражительности и отчаяния. Наверно, если абстрагироваться от супружеских отношений, счастливее всего мне жилось, когда я работал преподавателем и на каникулах не имел особых забот. Писательский труд причиняет просто невыносимое беспокойство. А гонорары — в этом пункте я не соглашусь с Сименоном — никак не компенсируют потраченную энергию, подорванное стимуляторами и наркотиками здоровье, боязнь написать какую-то гиль. Думаю, если бы у меня завелось достаточно денег, я на следующий же день бросил бы литературу.
Paris Review, 1973, № 56 (Spring), p. 123–163
Писатель в зеркале критики
Грэнвилл Хикс[237]
Изобильный мир Энтони Бёрджесса
© Перевод Николай Мельников
Год назад Энтони Бёрджесс опубликовал в книжном обозрении «Нью-Йорк таймс» статью под названием «Семнадцатый роман»[238]. Во всех отношениях это было интересное эссе, но пока давайте сконцентрируемся на цифре «17». По данным на 21 августа 1966 года Бёрджесс написал шестнадцать романов и, по крайней мере, два тома нехудожественной прозы — впечатляющий рекорд для любого писателя младше пятидесяти. Бёрджесс, однако, начал публиковаться, когда ему было около сорока.
Я еще не прочел все шестнадцать романов. В сущности, я даже не могу перечислить все названия. Но теперь издательство «Балантайн букс» выпустило в мягкой обложке восемь из них (точнее, десять, поскольку три части «Малайской трилогии» были изданы в Англии отдельными книгами) и один том нон-фикшн. За последние несколько недель я с удовольствием ознакомился с этими изданиями, которые ввели меня в странный, порой забавный, порой ужасающий, мир Энтони Бёрджесса.
Получив музыкальное и филологическое образование, Бёрджесс шесть лет отслужил в армии; затем, преподавая историю языка и риторику, посвятил себя сочинению серьезной музыки. Позже он провел несколько лет в Малайе и Брунее и только по возвращении в Англию заделался романистом.
Тем не менее один роман, «Вид на крепостную стену», был написан в 1949 году и опубликован только в 1965-м. Когда Бёрджесс наконец решился опубликовать его, он написал к нему предисловие, в котором сообщил, что в 1948–1949 годах создал массу музыкальных произведений (их список прилагается). «К началу каникул 1949 года я был пуст в музыкальном плане, но меня все еще мучил зуд творчества». Вот он и написал роман — за каникулы, — что, как он утверждает, спасло его от депрессии.
Роман ему не понравился, и он «не приложил усилий, чтобы подыскать издателя». Шестнадцать лет спустя Бёрджесс смог перечитать роман, испытывая «куда меньшую душевную боль и не столь сильное чувство авторской неудовлетворенности, как ожидал», а потому решил предложить его вниманию публики.
Хотя Бёрджесс откровенно заявляет, что роман основан на его личном опыте, когда с 1943-го по 1946-й он служил в Гибралтаре, он утверждает, что все персонажи им выдуманы. Даже если в целом это правда, весьма вероятно, что центральный персонаж, Ричард Эннис, имеет много общего с Энтони Бёрджессом военных лет (кроме увлечения музыкой). Эннис принадлежит к тому же типу, что и эмисовский Счастливчик Джим: молодой человек, у которого талант доставлять самому себе всяческие неприятности. Бёрджесс пишет, что его роман соотносится с «Энеидой» Виргилия так же, как «Улисс» Джойса, которым он восхищается, — с «Одиссеей», но боюсь, что для меня без авторского указания это вовсе не было бы очевидно. Не имея ничего общего с Энеем, помимо сходства имен, Эннис — рассерженный молодой человек, опередивший свое время.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса"
Книги похожие на "Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса"
Отзывы читателей о книге "Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса", комментарии и мнения людей о произведении.