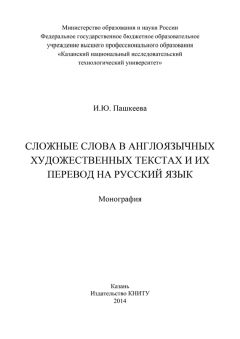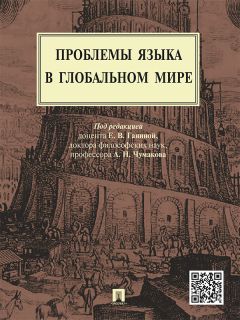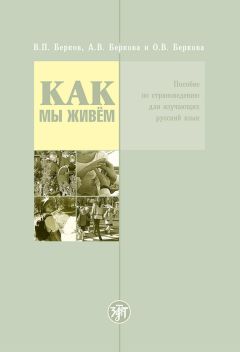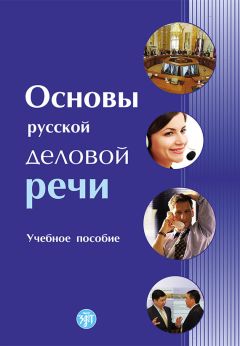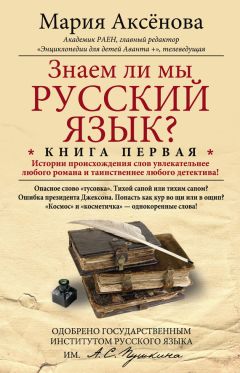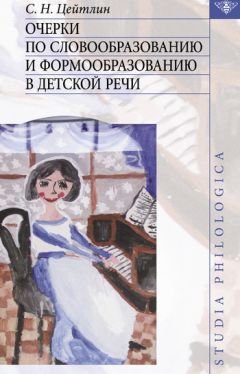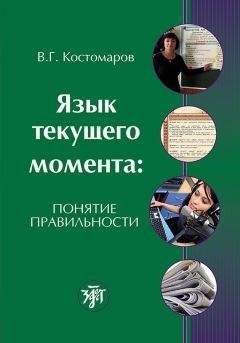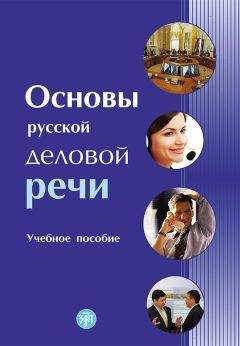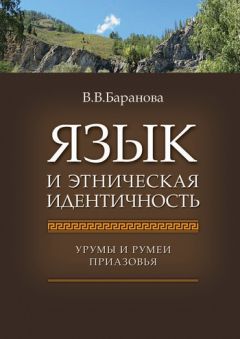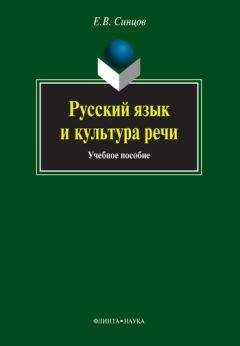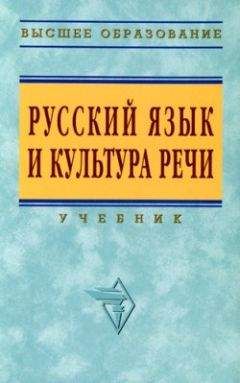Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени
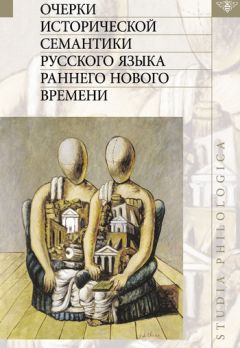
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени"
Описание и краткое содержание "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени" читать бесплатно онлайн.
Коллективная монография посвящена проблемам динамики лексических значений в ту эпоху, когда русский язык переживал радикальные изменения, связанные с культурной революцией Петровской эпохи и обусловленными этой революцией процессами модернизации, секуляризации и вестернизации. Создававшаяся в XVIII в. новая русская культура требовала заведения новых понятий, и именно эта задача определяла многочисленные изменения в истории отдельных слов. В предлагаемой вниманию читателя монографии семантическая эволюция трактуется в рамках истории понятий с применением того аппарата, который был выработан в этой области лингво-культурных исследований (в частности, в работах Р. Козеллека и его школы). В книге рассматриваются разнородные понятийные сферы, что позволяет создать стереоскопическую картину языковых изменений в контексте глубоких культурных перемен. Эти перемены в разной степени затрагивают разные области культуры, однако во всех случаях вызванные ими семантические процессы работают с унаследованным от предшествующих эпох языковым материалом, приспосабливая его к решению новых понятийных задач. В этой перспективе история слов превращается в историю культуры. В монографии исследуются изменения в понимании темпоральности и появление представлений о свободном времени (слова досуг, праздность), в нравственно-политических концептах (слова долг, долженство, должность), в понятиях социальной истории (слова служба, промысел, работа), в концептуализации человеческих качеств и поведения (слова мужество, смелость, отвага), в основных ментальных категориях, определяющих когнитивные способности человека (понятия простой и сложный), в каждодневных социальных практиках и их оценке (слова детоубийство, греховодник). Открывающаяся панорама семантических инноваций позволяет по-новому взглянуть на ряд теоретических проблем истории понятий.
Книга представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры и социальных историков.
Этот исторический контекст делает непростой и лингвистическую судьбу праздности. О праздном времени с нейтральными или даже положительными коннотациями начинают говорить, как было показано выше на примере «Примечаний к ведомостям», уже в послепетровскую эпоху. Выражение праздное время встречается в названии известного журнала «Праздное время в пользу употребленное», издававшегося студентами Кадетского корпуса с 1759 по 1760 г. Трактовка праздности в этом журнале, однако, достаточно близка традиционной, какая-либо апология праздности отсутствует, а речь идет в основном о том, как с пользой употребить появившийся у молодого дворянина досуг. Для этого в данном издании (как и за четверть века перед тем в «Примечаниях к ведомостям») составители журнала прибегают к помощи «The Spectator», на сей раз не переводя, а пересказывая (со ссылкой) уже известное нам эссе Р. Стиля [Праздное время I: 31–36]. В содержательном отношении этот пересказ может рассматриваться как редукция того перевода, который был помещен в «Примечаниях к ведомостям». В нем не остается пассажей, говорящих об индивидуальных accomplishments и культивировании личности как предпосылке благопотребного использования досуга. Основная мысль становится совсем тривиальной: не надо попусту терять доставшееся тебе «праздное время». О занятиях, которые, с точки зрения авторов журнала, избавляют от пустой потери времени, можно судить по первой статье журнала «О поздравленiи съ новымъ годомъ». Здесь говорится о том, что «лѣность и празднолюбïе суть главныя неприятели въ нашей жизни» [Там же: 2], а затем декларируется, что нет смысла поздравлять с новым годом человека, «непоказавшаго нималѣйшей услуги ни Государю своему, ни отечеству; непекущагося ни о приятелѣ своемъ, нижè о себѣ самомъ кромѣ того, что онъ во весь годъ только ѣлъ и пилъ а протчее время проспалъ» [Там же: 4–5]. Стоит отметить, что в качестве достойного употребления праздного времени на первом месте указываются «услуги» царю и отечеству, т. е. в новом обличии все та же служба, с помощью которой государство апроприирует время частного человека. Можно полагать, что праздность остается объектом моралистического осуждения вплоть до 1770-х годов.
Наиболее ранний из известных нам примеров нового отношения к праздности появляется у М. Н. Муравьева, первого поэта, противопоставившего горацианский идеал частного блаженства государственному служению литературы. В 1779 г. Муравьев писал [Муравьев 1967: 182]:
Дай, небо, праздность мне, но праздность мудреца,
И здравие пошли, и душу, чувствий полну,
И слезы радости, как, став за волжску волну,
На персях лучшего спокоюся отца [59].
Позитивная праздность появляется у молодого Карамзина. Это вполне предсказуемо, учитывая, насколько Карамзин в 1790-е годы был увлечен Руссо и как старательно он воспринимал образы руссоистской созерцательности (о созерцательности и oisiveté у Руссо см. [Schalk 1985: 240–241]). Мы находим ее в стихах в «Илье Муромце» [Карамзин VII: 202–203]:
Я намеренъ слогомъ древности
разсказать теперь одну изъ нихъ
вамъ, любезные читатели,
естьли вы въ часы свободные
удовольствiе находите
въ Рускихъ басняхъ, въ Рускихъ повѣстяхъ,
въ смѣси былей съ небылицами,
въ сихъ игрушкахъ мирной праздности…
и в прозе в «Бедной Лизе» [Карамзин VI: 16]:
Онъ (…) часто переселялся мысленно въ тѣ времена, (бывшiя, или не бывшiя) въ которыя, по описанiю Поэтовъ, всѣ люди безпечно гуляли по лугамъ, купались въ чистыхъ источникахъ, целовались какъ горлицы, отдыхали подъ розами и миртами, и въ щастливой праздности всѣ дни свои провождали.
Проблема переоценки праздности явно осознается, и в этот период неустоявшегося употребления делаются попытки провести различие между позитивно оцениваемым досугом и негативно оцениваемой праздностью. Так, в цитировавшемся выше эссе Х. Гарве, переведенном Карамзиным для «Московского журнала», говорилось [Гарве 1792а; 1792б]:
Карамзин, как видно из приведенных выше примеров, не придерживается этой дифференциации в своих собственных сочинениях, однако в данном случае важен сам опыт разделения. В это же время появляется сатирическое обыгрывание взгляда на праздность как на отличительную принадлежность благородного человека (сходного с воззрениями Сент-Эвремона). Н. И. Страхов, сатирик новиковского направления, в «Карманной книжке приезжающих на зиму в Москву» советовал семействам, прибывающим развлекаться в Москву, не покупать книг «о благоупотребленïи времени, потому что праздность есть главнѣйшимъ правиломъ благоурожденныхъ людей» [Страхов 1791: 87]. Реабилитация праздности, однако, оказывается сильнее этих благоразумных размышлений, и в легкой поэзии начала XIX в. праздность царит как в эстетической, так и в этической ипостасях [60].
Если у Карамзина эта переоценка еще только начинается, то у Батюшкова она явно идет дальше окказиональных словоупотреблений. В «Похвальном слове сну» из «Опытов в стихах и прозе» сон как состояние абсолютной праздности превозносится как «стихия лучших поэтов»: «Но почему сон есть стихия лучших поэтов? Отчего они предаются ему до излишества, забывают все – и славу, и потомство, и золотое правило древности, которое говорит именно, что праздность без науки – смерть, otium sine letteris mors est?» [Батюшков 1977: 135]. Автор оставляет этот вопрос без ответа, однако из самой его постановки явствует, что otium обладает для автора большей ценностью и принимается без тех оговорок, которые считал необходимыми Сенека. В письме В. Л. Пушкину 1817 года Батюшков писал: «Ваши сочинения принадлежат славе: в этом никто не сомневается. {…} Но жизнь? Поверьте, и жизнь ваша, милый Василий Львович, жизнь, проведенная в стихах и в праздности, в путешествиях и в домосидении, в мире душевном и в войне с славянофилами, не уйдет от потомства» [Батюшков III: 433] [61].
У А. С. Пушкина, племянника Василия Львовича, позитивная праздность встречается повсеместно, особенно в его относительно раннем творчестве (см. [СЯП III: 677]; см. также работу Ю. Семенова, в которой дается неполный обзор употреблений праздности и досуга у Пушкина и пушкинские пристрастия помещаются в романтическую антибуржуазную парадигму [Semjonov 1960]). Так, в лицейской редакции послания к В. Л. Пушкину 1817 г. находим [Пушкин I: 252]:
Но вы, враги трудов и славы,
Питомцы Феба и забавы,
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вам на-ухо: вы правы,
И с вами соглашаюсь я!
«Питомцы Феба» оказываются друзьями праздности, а поэзия, следовательно, – плодом otium’а. В «Деревне» (1819 г.) Пушкин пишет [Пушкин II: 89]:
Я твой – я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
К этому можно добавить «люблю я праздность и покой» и музу «праздности счастливой» из «Моему Аристарху» 1815 г. [Пушкин I: 153, 155] и «спокойную праздность» из стихов «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» того же года [Там же: 147]. И позднее, в декабре 1824 г., Пушкин пишет Д. М. Шварцу из Михайловского: «Уединение мое совершенно – праздность торжественна» [Пушкин XIII: 129]. Здесь нельзя не вспомнить и строку из первой главы «Евгения Онегина»: «И far niente мой закон» [Пушкин VI: 28]. Аналогичные мотивы можно обнаружить и у современников Пушкина. Так, Е. А. Баратынский связывает с праздностью рождение искусств («Н. И. Гнедичу», 1823 г. – [Баратынский 1957: 94]):
Искусства низошли на помощь к ним тогда;
Уже отвыкнувших от грубого труда
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили [62].
В те же годы подобные же эпикурейские декларации можно найти в стихах Н. М. Языкова «К халату» [Языков 1988: 94]:
Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени,
Товарищ тайных наслаждений
И поэтических отрад!
Такого рода примеры можно многократно умножить, хотя ничего принципиально нового это не приносит. Существенно более интересно, что в поэзии (и прозе) следующего поколения такие примеры исчезают. Их нет не только у Некрасова, но и у Тургенева или Фета. Этим русская праздность видимым образом отличается от франц. oisiveté: позитивные коннотации французского слова удерживаются во французском языке, в то время как в русском позитивная праздность оказывается кратковременным эпизодом, не оставляющим за собою длительной традиции. Вполне показательно, что если в «Trésor de la langue française» приводятся примеры на позитивные значения этого слова (включая примеры из авторов XX в.), в семнадцатитомном академическом словаре русского языка такие примеры отсутствуют [ССРЛЯ XI: стб. 49–50]: вольная праздность и мирная праздность исчезли вместе с золотым веком русской поэзии. Этот феномен трудно не связать с историей апроприации времени в России: сначала оно было апроприировано государством, затем – в противостоянии с государством – либеральными друзьями народа (интеллигенцией) [63], но в частном владении, для забав или личных причуд, не пребывало почти никогда. Данные языка в этом случае весьма красноречиво характеризуют основополагающие особенности культуры.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени"
Книги похожие на "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени"
Отзывы читателей о книге "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени", комментарии и мнения людей о произведении.