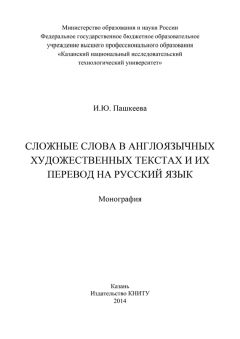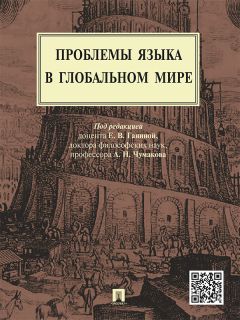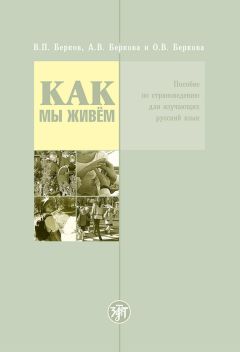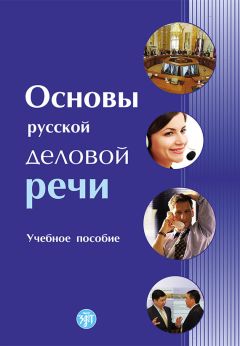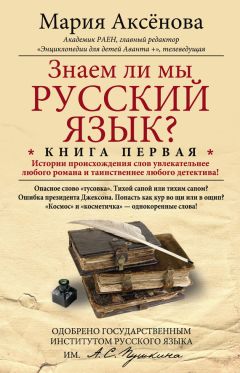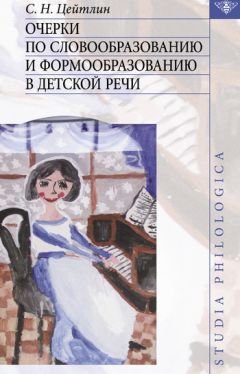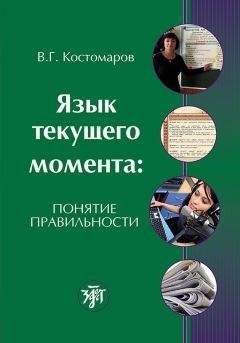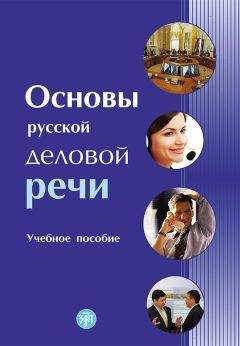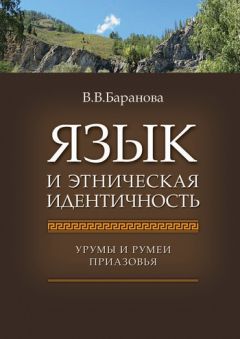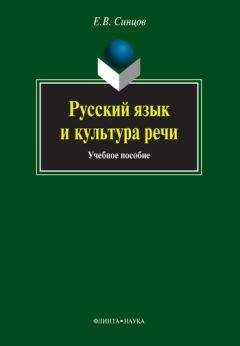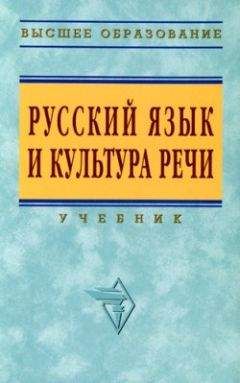Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени
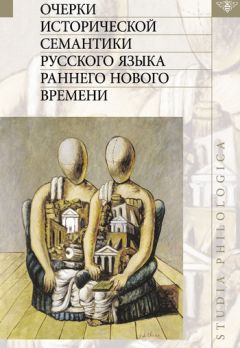
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени"
Описание и краткое содержание "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени" читать бесплатно онлайн.
Коллективная монография посвящена проблемам динамики лексических значений в ту эпоху, когда русский язык переживал радикальные изменения, связанные с культурной революцией Петровской эпохи и обусловленными этой революцией процессами модернизации, секуляризации и вестернизации. Создававшаяся в XVIII в. новая русская культура требовала заведения новых понятий, и именно эта задача определяла многочисленные изменения в истории отдельных слов. В предлагаемой вниманию читателя монографии семантическая эволюция трактуется в рамках истории понятий с применением того аппарата, который был выработан в этой области лингво-культурных исследований (в частности, в работах Р. Козеллека и его школы). В книге рассматриваются разнородные понятийные сферы, что позволяет создать стереоскопическую картину языковых изменений в контексте глубоких культурных перемен. Эти перемены в разной степени затрагивают разные области культуры, однако во всех случаях вызванные ими семантические процессы работают с унаследованным от предшествующих эпох языковым материалом, приспосабливая его к решению новых понятийных задач. В этой перспективе история слов превращается в историю культуры. В монографии исследуются изменения в понимании темпоральности и появление представлений о свободном времени (слова досуг, праздность), в нравственно-политических концептах (слова долг, долженство, должность), в понятиях социальной истории (слова служба, промысел, работа), в концептуализации человеческих качеств и поведения (слова мужество, смелость, отвага), в основных ментальных категориях, определяющих когнитивные способности человека (понятия простой и сложный), в каждодневных социальных практиках и их оценке (слова детоубийство, греховодник). Открывающаяся панорама семантических инноваций позволяет по-новому взглянуть на ряд теоретических проблем истории понятий.
Книга представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры и социальных историков.
Первоначально бенефициантом службы могли быть Бог (см. выше), а также российский или иноземный правитель (государь, князь, царь и т. д.):
И я, холоп твой, тебе, государю служил и бился с твоими государевы изменники день до вечера (1616) [Миллер I: 443];
В лето 7095 прииде из орды Крымский царевич Крымскаго царя к великому князю Феодору Ивановичю служити [Псковская летопись I: 320];
Служил есми, государь, трем королем, а такия обиды ни в котором королевстве не видал (XVII в.) [73];
И тамо в орду прибежав и вдастся царю казанскому служити и отвержеся веры христианския [74].
Российский правитель оставался одним из основных адресатов службы (по количеству контекстов и их репрезентативности) вплоть до начала XX века. В XVIII веке в контекстах, связанных со службой, начинает употребляться слово монарх:
Приветсвующе же молим тя, даждь им благополчно и долгоденственно под знаменем твоим воинствовати, {…} умножи и сохрани ордин сей, да крестоносцы твои воинствуют в нем, {…} на верную службу и помощь в трудех благочестивейшему своему Монарху ПЕТРУ Первому сего ордина устроителю и законоположнику (1720) [75].
Выражение служить царю в значении ‘служить российскому монарху’ входит в употребление достаточно поздно, по всей видимости, не ранее нач. XIX века. Весьма вероятно, что оно утвердилось в языке в связи с появлением теории официальной народности с ее знаменитой триадой: православие, самодержавие и народность. Таким образом, в известной фразе о службе Богу, царю и отечеству к древнерусскому периоду относится только первая часть.
Военная служба как занятие элиты обществаДля культуры XVIII–XIX века слово служить в первую очередь характеризует занятие дворян, поэтому прежде чем продолжить наше изложение, придется определить, в какой степени история слова служить соотносится с историей дворянского сословия. Очевидно, что в Древней Руси слово дворянин обозначало совсем не то, что в XVIII в. Дворянин – это прежде всего слуга князя. При этом четкого противопоставления между дворянами и дворовыми людьми (дворными людьми) нет:
Ондревич(а) бояре поедут на Уломскую слободку на монастырськую или князи, или воевод(ы), или дети боярьскии, или мои дворъныи люди, или имутца в деревнях ставити, или корм имати, или подвод имати… (1448) [76];
Дети боярские и дворовые люди (они же дворяня) (нач. XVII в.) [77].
При анализе многих контекстов, относящихся к разному времени, в которых употребляется слово дворянин, не совсем понятно, какая реалия стоит за данным словом. С одной стороны, во времена Древней Руси и в Екатерининскую эпоху слово дворянин обозначало нетождественные понятия. С другой же – не следует забывать, что в древнерусском языке, по всей видимости, не существовало универсального термина, обозначающего человека, принадлежащего к привилегированному сословию (в этом нет ничего удивительного: сословное общество возникает лишь в XVIII веке). Поэтому слово дворянин в том значении, которое это слово приобрело в XVIII веке, соответствует целому ряду древнерусских слов, обозначающих социальное положение людей, в том числе и слову дворянин. Если вести историю дворянства со времен Древней Руси, то это будет история привилегированных групп, к которым, в числе прочих, относились и древнерусские дворяне.
Обилие терминов, используемых для обозначения слуг князя (бояре, дети боярские, дворяне и т. д.), связано с тем, что эти слова соотносились не столько с характером деятельности этих людей, сколько с видом материального вознаграждения, которое они получали. Основным видом вознаграждения для дворян была земля, владение которой по мере создания централизованного государства все более четко связывается с военной службой великому князю. В 1556 г. Иоанн IV «с вотчин и поместий уложенную службу учинил»: со ста четвертей земли должен был быть выставлен вооруженный человек на коне. С этого времени на всех служилых людей ведутся списки, в которых обозначается, «каков он будет на государеве службе конен и оружен и люден».
Подобную перепись представителей привилегированных групп, конечно же, можно считать прообразом будущего сословного деления общества, но все-таки не больше, чем прообразом. И накануне петровских преобразований шляхетство (в петровских документах слова дворянство и шляхетство употреблялись равнозначно) представляло собой конгломерат потомков титулованных княжеских фамилий, старых бояр и детей боярских и, наконец, простых дворян, предки которых нередко всю свою жизнь провели в холопском звании. При этом сами представители привилегированных групп настаивали на том, что их положение определяется знатным происхождением. Однако, говоря о преемственности, приходится задаваться вопросом, что именно объединяет дворян и детей боярских XVI века со шляхетством конца XVII и дворянством середины XVIII века. И этим объединяющим моментом оказывается военная служба, которая в Средние века, а отчасти и в Новое время, была основным занятием представителей привилегированных групп.
Свидетельство о том, что именно военная служба превращает человека в представителя привилегированного социума, сохранилось в современном языке. Даже во времена рекрутских наборов и всеобщей воинской обязанности, когда хождение строем являлось обязанностью, а не привилегией, о солдатах продолжали говорить, что они служат (действие свободного человека), практически не употребляя глагола работать, характеризующий труд несвободного человека. Такое словоупотребление сохраняется и в современном языке. О солдате говорят, что он служит в стройбате, хотя его действия должны описываться словом работа. Служба в армии уже давно не является престижным занятием, однако по отношению к военному делу по-прежнему употребляется слово служба, а не работа или промысел [78].
От служилых людей к дворянскому сословиюВ результате петровских реформ именно служба начинает определять место человека в государственной иерархии. Для Петра отличие шляхетства (т. е. дворянства) [79] от прочих подданных заключалось в годности к службе. В 1724 году Военная коллегия обратилась к Петру с запросом:
О недорослях указ повелевает, знатного шляхетства и офицерских детей писать в гвардию, а прочих в другие (…) полки; а понеже невозможно знать, которое знатное шляхетство: того ради требуется определения, каким образом знатное шляхетство считать, по дворовому ли числу ото ста дворов и выше, или по Регламенту о рангах до которого класса [ПСЗРИ I: 7, № 4589, 361–362].
Петр наложил на этот документ резолюцию «знатное дворянство по годности считать», то есть место человека в государственной иерархии определяется не происхождением и не богатством, а годностью к службе. Служба в полках для шляхетства была обязательной и бессрочной. Контрольные функции над дворянами, наблюдение за тем, чтобы они не уклонялись от службы, принадлежали Герольдии, в число функций которой входило среди прочего составление дворянских списков. Если во второй половине XVIII века включение в дворянский список (дворянскую книгу) означало серьезные привилегии, то в начале века – только обязанности. Не случайно в Петровское время некоторые дворяне, чтобы избежать службы, предпочитали записываться однодворцами [Раскин 1996: 673; ПСЗРИ I: 26, № 19856, 615].
В число служебных обязанностей дворян теперь вошла и учеба [Чечулин 1889: 49]. Все дворяне были обязаны учить своих детей сначала в гарнизонных училищах, а затем в корпусах. Учить детей дома дозволялось только тем, чье имущественное положение позволяло нанимать учителей. Но и для учившихся дома детей были обязательны явки на смотры к представителям администрации в 7, 12, 16 и 20 лет. Разрешение продолжать домашнее образование получали лишь те, кто успешно проходил это испытание. За уклонение от учения грозили каторжные работы или ссылка [Романович-Славатинский 1870: 125–127].
Смотры дворянских детей проводились иногда в Герольдии, иногда в Сенате, а иногда и лично императором. В 1704 году дело ограничилось присылкой в Герольдию списков дворян [Романович-Славатинский 1870: 118]. О царском смотре 1712 года сохранились воспоминания Василия Васильевича Головина:
Мая в последних числах был нам всем смотр, а смотрел сам его царское величество, и изволил определить нас по разбору на трое: первые, которые летами по старее, в службу в солдаты, а середних – за море в Голландию для морской навигацкой науки, в которых в числах за море и я, грешник в первое несчастие определен, а самых малолетних в г. Ревель в науку [Пекарский I: 142].
При этом заграничная учеба проходила под наблюдением специального надсмотрщика, присланного из России для понуждения навигацкой науки [Там же].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени"
Книги похожие на "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени"
Отзывы читателей о книге "Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени", комментарии и мнения людей о произведении.