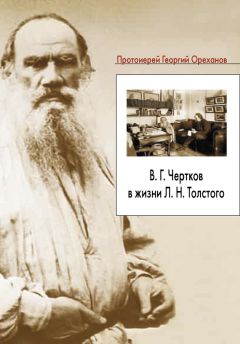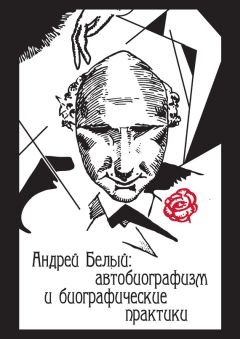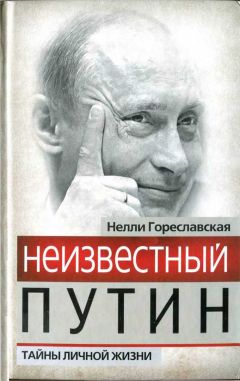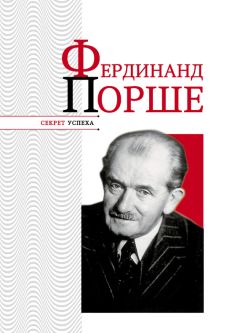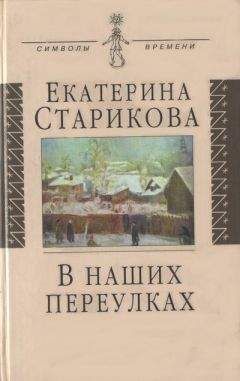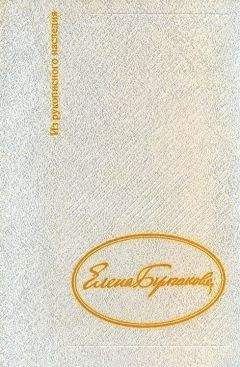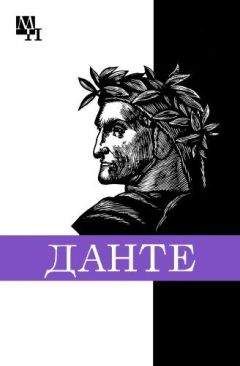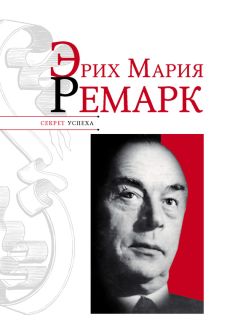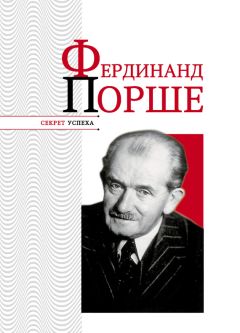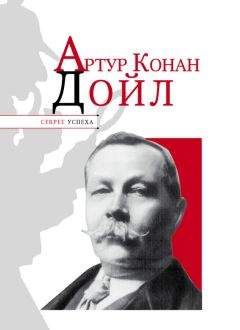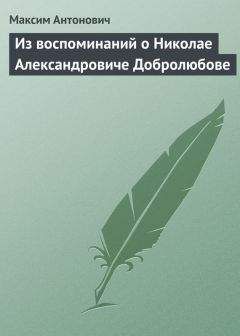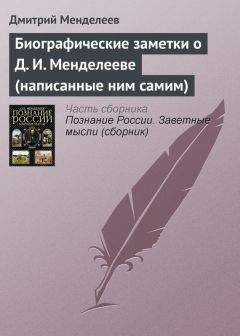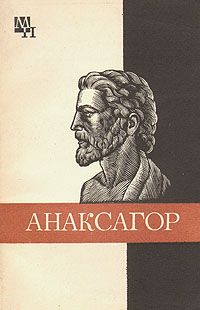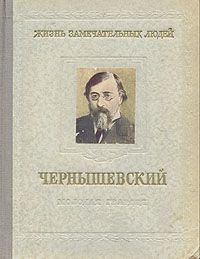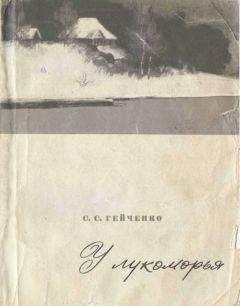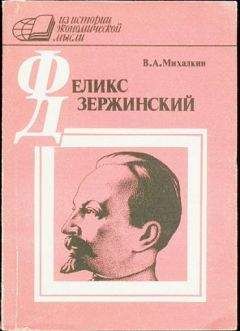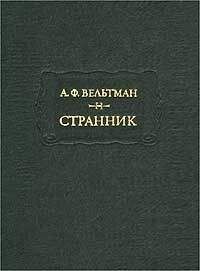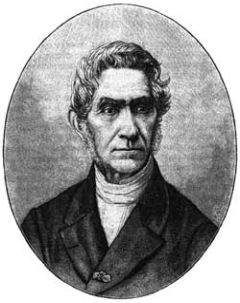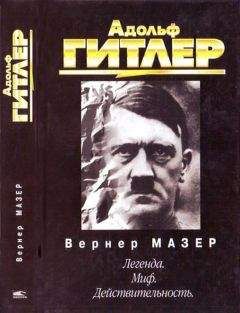Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)
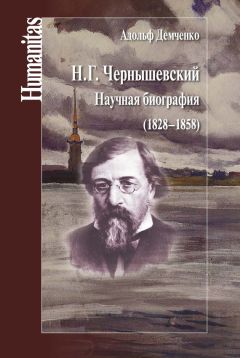
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
Описание и краткое содержание "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)" читать бесплатно онлайн.
Среди обширной литературы о Николае Гавриловиче Чернышевском (1828–1889) книга выделяется широтой источниковедческих разысканий. В ней последовательно освещаются различные периоды жизненного пути писателя, на большом архивном материале детально охарактеризованы условия формирования его личности и демократических убеждений. Уточнены или заново пересмотрены многие биографические факты. В результате чего отчетливее выясняется конкретная обстановка раннего детства в семье православного священника (главы о предках, родителях, годы учения в духовной семинарии), пребывания в университете и на педагогическом поприще в саратовской гимназии. Подробно рассмотрены обстоятельства женитьбы, дружеские связи, учительская служба во 2-м кадетском корпусе, биографические подробности защиты магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», особое внимание уделено участию в редактировании «Современника» и «Военного сборника».
Многотрудная служба Терсинского протекала на глазах Чернышевского, и он на примере многообещающего магистра духовной академии мог сделать выводы о своём будущем, если свяжет судьбу с академией. В эти годы Терсинский был частым гостем Чернышевских. Он увлёкся Л. Н. Котляревской и вскоре (в 1847 г.) женился на ней, породнившись таким образом со своим бывшим учеником (I, 627).[211]
Николай Чернышевский посещал открывшийся 13 октября 1844 г. под началом Терсинского класс немецкого языка. Одновременно А. Т. Петровским по указанию ректора был открыт и класс еврейского языка, но в списках учеников этого класса имени Чернышевского нет.[212] Сохранившиеся в личном архиве Чернышевского упражнения на древнееврейском языке, датируемые исследователем 1844 г.,[213] говорят о возможных колебаниях в выборе языков (объявление об организации немецкого и еврейского классов сделано ректором в сентябре), а самый выбор свидетельствует, что в октябре 1844 г. мысль о восточном факультете университета, о которой он писал А. Ф. Раеву 3 февраля, уже была оставлена в пользу русской словесности.
Церковно-библейскую историю преподавал инспектор иеромонах Тихон (Солнцев) (род. в 1811). Он прибыл в Саратов в 1838 г. после окончания Киевской духовной академии, куда поступал из Курской семинарии.[214] В должности инспектора прослужил до 1849 г. О его инспекторских расправах с учениками речь пойдёт ниже, здесь же отметим встречающиеся в мемуарной литературе подробности о его отношениях с Чернышевским. Ф. В. Духовников сообщал, что Гаврила Иванович «сам представил» сына Тихону с просьбой обратить на него внимание, «мать Николая Гавриловича тоже сделала визит с той же целью честолюбивому Тихону, чем польстила его самолюбию, и изредка справлялась у него об успехах и поведении Николая Гавриловича». Инспектор неоднократно ставил в пример подобную заботу: «Коля Чернышевский единственный сын у родителей и такой, можно сказать, светило, а и отец и мать, почтенные и уважаемые люди, приходили ко мне и просили не оставить их сына без внимания».[215]
Во главе семинарии стоял ректор – архимандрит Спиридон (Грацианов) (1796–1853), кандидат Московской духовной академии. Первоначальное образование он получил в Нижегородской семинарии, затем служил профессором и инспектором в Псковской семинарии, в Саратов ректором был назначен в октябре 1833 г.[216] Историк семинарии характеризует его как «человека небольшой учёности и невысоких дарований».[217]
Здесь перечислены только те из преподавателей, которые вели занятия в классах Чернышевского. Остальные профессора-наставники (К. М. Сокольский, А. И. Андриевский, П. Н. Смирнов) ничем не выделялись из этого довольно унылого ряда учителей, придавленных материальной нуждой и всевидящим надзором со стороны начальства. Исключение составлял один Г. С. Саблуков, но о нём разговор особый. Многодетные преподаватели вынуждены ютиться в тесных квартирах «профессорского» дома-общежития. В классах многолюдно, тесно, грязно, шумно. Число учеников в классе, где учился Чернышевский, колебалось от 84 до 121 человека, в «языковых» классах – от 60 до 102. «Классные комнаты, – вспоминал однокашник Чернышевского, – у нас по зимам не топились, оконные рамы были одни, двери разбиты, и холод в классе невыносимый».[218] Из «Описи семинарского имущества» приведём следующие подробности: «классических столов, окрашенных чёрною на масле краскою» числилось по всем семинарским классам в 1841–1847 гг. 29, «скамеек к ним – 26» (это при 504, 448, 531, 472 учениках в 1842–1845 гг.!), кафедр всего было три (одна для зала собраний и две в богословском отделении) и только одна доска «с треножником и грецкою губкою» для математического класса.[219] О недремлющем оке начальства, следящего за малейшими отклонениями преподавателей от правил, красноречиво повествует документ, который имеет прямое отношение к классу Чернышевского. «При вчерашнем моём посещении семинарии, – писал епископ в семинарское правление 11 ноября 1843 г., – я заметил, что во втором классе низшего отделения не было наставника, несмотря на то, что было уже за половину девятого часа утра. Это опущение сделано учителем Синайским. Подтвердить ему, Синайскому, впредь быть исправнее, а инспектору велеть доводить до моего сведения о подобных неисправностях, если оные будут допущены кем-либо из наставников».[220] «Ректор на профессоров к архиерею, инспектор тоже на И. Ф. <Синайского> – поздно ходит в класс» (XIV, 6), – сообщал Чернышевский А. Ф. Раеву в феврале 1844 г.
Учебников и необходимых пособий явно не хватало, особенно это касалось естественных наук. Учитель физики и математики М. И. Смирнов электрическую машину, например, получил «от неизвестного» в июле 1842 г.,[221] и если бы не случай, ученики так никогда и не увидели бы действие искусственного электрического разряда. Выше приводились данные об отсутствии в семинарии элементарных инструментов для математических измерений. Другой любопытный случай относится к 1846 г., когда учитель по сельскому хозяйству обратился к начальству с просьбой приобрести во врачебной управе для уроков по зоологии человеческий скелет. Иаков наложил следующую резолюцию: «Просить управу уступить скелет для семинарии в пользу науки, но предварительно и частно осмотреть скелет, полон ли он, хорошо ли сложен и стоит ли того, чтобы такой иметь при учебном заведении». Из щекотливого положения со скелетом выручила сама врачебная управа, которая скелета «не уступила», а потребовала за него 10 рублей. На это, может быть, и рассчитывал преосвященный, потому что семинарское начальство прописало: «Поелику как суммы на покупку означенного предмета не имеется в правлении семинарии, так и без разрешения высшего начальства нельзя приобретать означенного скелета, то оставить пока без исполнения впредь до новых распоряжений и постановлений касательно естественной истории».[222] Ясно, что при таком отношении к делу преподавателям семинарии работать было нелегко.
Кандидаты и даже магистры духовных академий, поселившись в саратовской глуши, быстро теряли свою учёность и погружались в мир тусклых служебных и семейных забот. Чернышевский ежедневно видел перед собой людей, которые уже не проявляли потребности вырваться за пределы семинарской лекции и не поддавались ни на какие советы и уговоры – даже идущие со стороны начальства – заняться богословскими науками серьезнее. Исключением был Г. С. Саблуков, преподаватель гражданской истории и татарского языка. Епископ Иаков, прочитав извещение от 27 апреля 1845 г. о составленном учителем Воронежской семинарии А. Данским руководстве к изучению русской словесности для воспитанников духовных семинарий, обратился к своим подчинённым с призывом: «Пора и нашим наставникам писать книги. Синайский это сделал. Саблуков трудится с похвалою. За прочими остановка по сей части».[223] Впрочем, приглашая к издательской деятельности, Иаков в то же время отказывал в материальной поддержке, и в результате тормозил дело, к которому призывал. Преданный науке, Саблуков такой помощи не требовал, и это особенно устраивало преосвященного. Синайский же напечатал свой российско-греческий словарь полностью за свой счет, и когда он в 1847 г. попросил Иакова о пособии «для покрытия больших моих издержек при издании сего словаря», тот отвечал: «Книга эта очень полезна для учебных заведений, в которых преподается греческий язык. Предписать начальникам духовных училищ позаботиться о распространении сей книги между учениками. Наставники семинарии также должны позаботиться о внушении ученикам пользы приобретения российско-греческого словаря». По существу, это был отказ, облаченный в комплиментарную форму. А сменивший Иакова епископ Афанасий ограничил и самую продажу словаря Синайского на том основании, что «в наших училищах, где греческий язык изучается только аналитически, употребление словаря русско-греческого весьма незначительно».[224]
«Дрязги семинарские», о которых Чернышевский писал А. Ф. Раеву, возникали не только из «перлов» преподавательских, но и подробностей ученической жизни бурсаков. Семинарский архив фиксировал далеко не все происшествия, к тому же многие документы утеряны, однако и сохранившиеся материалы вполне доносят затхлый воздух семинарской среды и позволяют развернуть употреблённую Чернышевским характеристику в её исторической достоверности.
Согласно инструкции, бурсаки, то есть живущие в семинарском общежитии «казённокоштные» ученики, обязаны были вставать в 6 часов утра, следующий час назначался «на молитву» и завтрак. С 8 до 12 – занятия в классе (в 1845 г. уроки стали начинаться с 9 утра). После двухчасового перерыва на обед занятия продолжались еще два или четыре часа. Остальное время отводилось на молитвы, домашние занятия, прогулку и ужин. В 10 вечера учеников укладывали спать. Особым пунктом отмечено: «Часы отдыха не должны быть проводимы в совершенной праздности и должны иметь свой род занятий, состоящих из невинных и занимательных разговоров, или в чтении удобнейших для разумения и невредных для нравственности книг», музыка и пение дозволялись «только духовные и благопристойные». Строго воспрещалось посещение» театра и других «каких-либо худых общественно-подозрительных домов», нюхание и курение табаку, своевольные отлучки, грубость, дерзость.[225] Курение было запрещено в сентябре 1841 г., после того как однажды один из священников (Иоанн Викторов из слободы Александров Гай) явился к епископу Иакову «смердящим трубкою». «Зараза эта трубочная, – с возмущением писал Иаков, – должна происходить от невнимания начальства к образу жизни учеников по семинарии». По распоряжению епископа все ученики и преподаватели семинарии дали подписку «не курить табак».[226] Замеченный «в трубокурстве» одноклассник Чернышевского Василий Никольский был в октябре 1845 г. «оштрафован 2-х дневным заключением в карцер и записью в книге поведения».[227] Цитированная выше инструкция для семинаристов вовсе не ограничивалась утверждением определённого распорядка дня – она призвана «споспешествовать развитию религиозного чувства, утверждению духа благочестия и истреблению всех пороков в учениках».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
Книги похожие на "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
Отзывы читателей о книге "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)", комментарии и мнения людей о произведении.