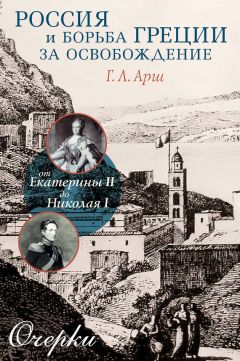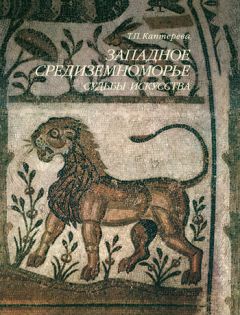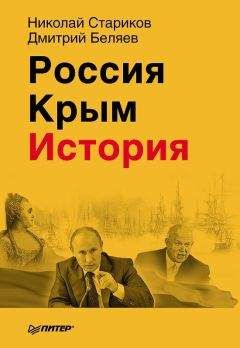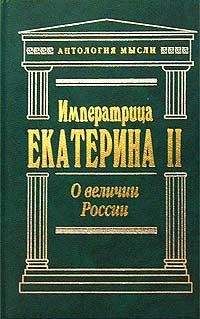М. Велижев - Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой
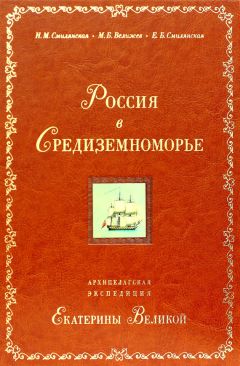
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой"
Описание и краткое содержание "Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена начальному периоду становления российского присутствия в Средиземноморье – Архипелагской экспедиции российского флота 1769-1774 гг. Авторы монографии обращаются к документальным и повествовательным источникам (в том числе из российских и западноевропейских архивов), российской и иностранной прессе, проповедям и литературным произведениям с целью выявления скрытых механизмов утверждения влияния екатерининской России в Восточном Средиземноморье, роли Архипелагской экспедиции в установлении культурных и политических контактов России с населением Греции, с правящей элитой итальянских государств, с правителями Ближнего Востока и Северной Африки. В подобном ракурсе средиземноморская политика Екатерины II ранее не изучалась. Специально в монографии исследованы пропагандистские стратегии Екатерины Великой, а также западноевропейское и российское восприятие средиземноморской акции России. В приложении публикуются новонайденные рукописи и архивные документы.
По мнению Коковцева, просвещенными могли называться только жители островов «Тино, Сиро, Микон, Наксия и Патмос», которые были втянуты в морскую торговлю. Так, жители Тиноса и Андроса, по мнению М. Коковцева, были «довольно просвещены и, обращаясь непрерывно в мореплавании, торгуют произведениями других островов», тогда как на о. Шхиро, покрытом «дремучими лесами», греки – «мало просвещенные», поскольку «упражняются в одном только земледелии»[653]. Эту же «дикость и варварство» Л. Паш ван Кринен связывал, прежде всего, с османским владычеством и междоусобицами, пришедшими после падения Византии: «После падения греческой монархии оныя острова из под одного ига в другое переходили, от чего по примеру самой Греции [в] беднейшее впали состояние, которые наиболее под игом варваров все добрыя нравы и свойства потеряли, впад в желчейшее состояние, всегда будучи утесняемы лишением имения и детей, не имевши силы противится столь великими для их разореннию, к чему во многом они сами повод подавали будучи почти всегда между себя несогласи и завидуя один другому»[654].
Рассказы о больших и малых обманах греками русских, видимо, были частой темой для бесед. Примечательны два подобных рассказа: первый, закончившийся для русских потерями, второй – приобретением.
На острове Тассос, где флот запасал корабельный лес, во главе управления (или, как писал Спиридов, «остров был передан в хозяйство») был назначен лейтенант флота А.И.Поликути, «добросердечный и усердный к службе». Из жалости он раздавал хлеб терпящим голод грекам, неимущим работникам местных «приматов» (надо полагать, землевладельцев), которые обещали расплатиться своими продуктами- воском, оливковым маслом, смолою, скотом. Однако Поликути был обманут. Когда в деревни за этими продуктами были посланы «команды», то никого в деревнях найти не удалось: жители разбежались и угнали скот в горы. Захватили семерых приматов, но когда двоих из них послали за сбором скота и денег, то и они не вернулись. Корабль Поликути торопился покинуть остров, и экзекуции производить не было времени, лишь заковали в цепи пятерых арестованных. После этого эпизода Г.А. Спиридов запрашивал А.Г. Орлова, не следует ли весной, когда корабли придут на Тассо, повесить арестованных, «да из деревень тамошних,– добавлял адмирал, – в страх другим, не худо несколько велеть разорить»[655]. Одним словом, в данном случае образ действия, предложенный Спиридовым, не слишком отличался от поведения его турецких противников, да и местные жители действовали по привычной для них схеме. Остается предположить, что инцидент был улажен, ибо более сведений о подобного рода конфликтах в источниках не встречается. По-видимому, командование стало последовательно придерживаться тактики «приласкивания».
Во втором рассказе (его привел М. Коковцев), повествуется, как «один российский крейсер, родом славонец, командовавший шебекою Забнакою («Забиякою»[656]. – Авт.), узнав выгодное положение здешней пристани и пришед к острову Кастро Россо, захватил несколько греков. Уведомясь от них, что в крепости турков гораздо превосходнейшее число от его людей, и что крепостцы по неприступному ея на каменистых утесах положению и с большим войском взять нельзя, употребил воинскую хитрость. Он, ведая непостоянство греков, сказал им, что прислан от флота Российского осматривать пристань Кастро Росскую, и что через 24 часа весь флот сюда прибудет, и просил их не сказывать сего туркам под опасением в противном случае жестокаго наказания. Но греки не успели возвратиться, рассказали в крепости слышанное ими, а турки, пользуясь ночною темнотою, на мелких судах уехали в Караманию (Анатолию. – Авт.), оставя крепость и пушки ему в добычу. С того времени служил сей остров пристанью для Российских крейсеров в Сирских и Караманских водах плавающих»[657].
Крепость Кастро-Россо. Из журнала шебеки «Греция»
Клишированные обвинения греков в лицемерии, хитрости и склонности к обманам и предательствам[658], кочующие из одного описания в другое, как уже отмечалось, родились сразу после неудач совместных действий в Морее, но опыт создания Архипелагского княжества, кажется, лишь усилил взаимные разочарования (впрочем, все эти обвинения можно встретить при описании малознакомых культур, и, по наблюдениям Ларри Вульфа, без подобных шаблонных обвинений редко обходились и путешественники, открывавшие Восточную Европу[659]).
Что можно было ожидать от утомленных тяготами войны, незнакомым климатом, болезнями рядовых участников экспедиции, остро реагирующих на инаковость греков, их отличие от первоначального образа античных героев и великих христиан, если горечь разочарования охватила инициаторов всего предприятия!
Не способствовала смягчению взаимного недовольства участников экспедиции и греческого островного населения и третья сила – нерегулярное войско, в которое были набраны разнородные по национальному составу жители Балкан и Архипелага. Именно их – более всего и опасались мирные жители «вольного» Архипелагского княжества.
Уже летом 1771 г. жалобы жителей островов на разбой и «обиды» албанцев стали наводнять канцелярию в Аузе. Так, 11 августа 1771 г. жители деревни Баркия на Паросе жаловались, что «военнослужащие в нерегулярном войске арнауты, албанцы, морейцы, сфациоты и протчия греки причиняют тутошным обывателям, их женам и детям разныя обиды и озорничества, угрожая при том, что по выступлении отсюда регулярнаго войска наивящеи будут чиннить претеснени и обиды»[660]. О том же писали жители Левки (Лефкоса) на Паросе и греки острова Наксос и др. Командование вынуждено было озаботиться принятием против разбоев срочных серьезных мер[661]. О негативных последствиях для греческого населения островов пребывания российского флота и действий «албанцев»-добровольцев писал и Шуазель-Гуффье. Он отмечал, что жители островов Сикино и Поликандро очень пострадали «во время последней войны» от грабежей и «бедствий», причиненных корсарами-греками (в противоположность острову Сифннос, который из-за отсутствия «хорошей гавани» был «спасен в минувшую войну»); для жителей о. Наксоса «соседство с Паросом имело … пагубные последствия во время пребывания Русских…»; на Паросе «албанцы на русской службе» разорили и разрушили древний монастырь капуцынов[662]. Правда, молодой французский путешественник-эллинист в своем труде ушел от прямых обвинений русских (что в дальнейшем, вероятно, сыграло свою роль, когда во время Французской революции он вынужден был искать спасения в России![663]).
Итак, в 1770-1774 гг. Архипелагское княжество, едва образовавшись, уже имело тяжелый груз проблем: без российского флота оно не могло себя защитить, но содержать значительные военные силы оно было не в состоянии (умеренная «десятинная» подать никак не покрывала флотских нужд!). Серьезная угроза таилась и в нараставшем недовольстве друг другом русских и греков, греков и наемного «албанского» войска, росте числа конфликтов между ними. Эксперимент по созданию Архипелагского княжества оказался трудным для всех его участников, и заключительная страница его истории это доказала (см. далее).
Дела церковные
Присутствие российского флота в Архипелаге и создание княжества ставили перед руководством экспедиции вопросы не только военного и гражданского, но и церковного строительства. Не вступая в конфронтацию с Константинопольским патриархатом, находившимся в сложном и крайне рискованном положении после начала русско-турецкой войны[664]. И Орлов, и Спиридов способствовали тому, чтобы связи духовенства на островах Архипелагского княжества с Константинополем были фактически прерваны. Между тем, сложившаяся в
Османской империи система миллетов, при которой главой всех и светских, и духовных православных христиан являлся патриарх, предопределила сильное влияние церковных институтов во всех сферах общественной и частной жизни. Как бы ни хотел адмирал Спиридов доказать на великороссийских примерах духовенству Архипелагского княжества преимущества российской модели отношений светской и церковной властей[665], кажется, синодальная послепетровская организация не стала для греческого духовенства желанной. А потому, чтобы не вступать в конфронтацию с местными духовными пастырями, и Спиридову, и его адьютанту П.Нестерову приходилось последовательно проводить идею независимости церковного суда, неподсудности духовенства суду светскому, сохранения всех прав собственности церквей и монастырей на движимое и недвижимое имение.
При таком положении дел поистине подарком для российского командования стал переезд в Аузу бывшего вселенского патриарха Серафима II (он был константинопольским патриархом в 1757-1761 гг.). Уйдя на покой, Серафим жил на Афоне, но в 1771 г. покинул афонское уединение и был «с почтением» принят на базе российского флота. Призвав командование российским флотом на помощь, он быстро заставил замолчать тех духовных лиц, которые имели «сумнительство», что «якобы он патриарх запрещенный, и служить ему негоже» и что он «без ведома нынешнего архиерея священников собирает». Аргумент патриарха, который убеждал Спиридова, – «хотя мы и не на патриаршем престоле находимся, но удалены не по правилам и правила совершать нам жертву не возбраняют», – был трудно оспорим. Серафим хотел на Пасху молиться о «благополучном здравии императрицы и наследника»![666] А потому он, судя по всему, и получил желаемую «резолюцию» русского адмирала (полномочия коего в духовных делах едва ли были освящены каноническим правом!), и в российских документах его упоминали только как патриарха[667].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой"
Книги похожие на "Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "М. Велижев - Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой"
Отзывы читателей о книге "Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой", комментарии и мнения людей о произведении.