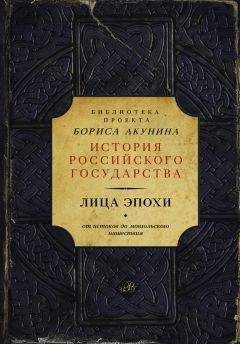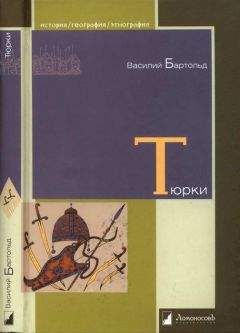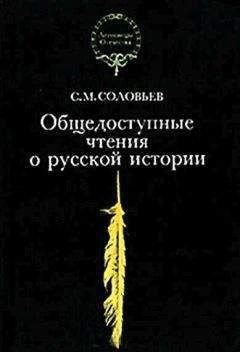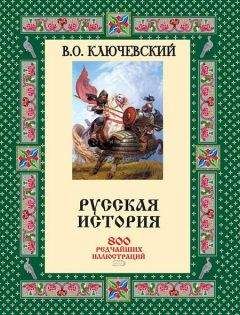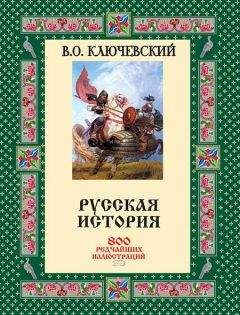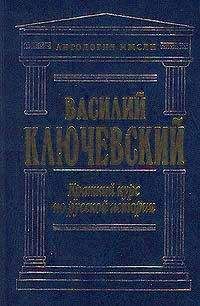Василий Ключевский - Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)"
Описание и краткое содержание "Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)" читать бесплатно онлайн.
Второй том В.О.Ключевского содержит двадцать девять лекций (XXXIII—LXI) крупнейшего труда русского историка.
Монастырские вотчины и государство
Не так очевидно, но не менее сильно затрагивало монастырское землевладение интересы государства и служилого класса, сходные по отношению к этому землевладению. Обилие денег давало монастырям возможность, возвышая покупные цены, перебивать продажные земли у других покупщиков, особенно у слабосильных служилых людей, и доставило монастырям господство на земельном рынке: дети боярские жаловались правительству, что «мимо монастырей вотчин никому ни у кого купить не мочно». Мы уже видели, какие земельные операции совершали монастыри посредством вкладов со сдачей и мены с придачей. При неумеренной заботливости об устроении души земельные вклады часто соединялись с ущербом для законных наследников, родичей и даже собственной семьи и вкладчика и получали одиозный характер. Иные отказывали в монастыри свои вотчины по душе, чтобы эти вотчины «ближнему их роду не достались», а чтобы родичи не могли воспользоваться своим правом выкупа, завещатели или вкладчики назначали такие высокие выкупные цены вкладным вотчинам, что выкуп их становился невозможным. Иной отказывал в монастырь все свое имение, оставляя жену без всякого обеспечения, и только просил братию «жену его наделити, как им, государям, бог известит». Особенно тяжело читается вкладная (1580 г.) одной вдовы: свою вотчину, отца своего благословение, она отказывала в монастырь по душе отца и по своей; у нее было два сына, один 4 лет, другой полугоду, и она просит архимандрита с братией «пожаловать, тех моих детишек по дворам не пустить». Такими разнообразными путями служилые вотчины, бывшие подспорьем поместий, уходили из служилых рук в монастыри, вынуждая правительство для поддержания военно-служебной годности своих слуг возмещать их вотчинное оскудение усиленными поместными и денежными окладами. Чтобы остановить или хотя бы только упорядочить этот уход земли из служилой среды в неслужилую, в XVI в. стали запрещать монастырям без доклада государю покупать, брать в заклад и по душе вотчины у служилых людей. Монастырское землевладение создавало государству и служилому классу еще другое затруднение. Мы уже видели, как боялись за свои земли казенные крестьяне, по соседству с которыми возникал монастырь. Это опасение разделяли и соседние землевладельцы, и оно нередко оправдывалось для тех и других: земли их так или иначе отходили к монастырю. Испрашивая себе широкие привилегии по податям и повинностям, монастыри могли заселять свои пустоши на льготных условиях, перезывая крестьян с соседних казенных и владельческих земель, отнимая тяглых и оброчных плательщиков у крестьянских обществ и у служилых землевладельцев. Уже к половине XVI в. монастырское землевладение достигло обременительных для государства размеров. Один из англичан, бывших в Москве в это время, писал, что в Московии строится множество обителей, получающих большие доходы со своих земель, ибо монахи владеют третьей частью всей земельной собственности в государстве (tertiam fundorum partem totius imperii tenent monachi). Это — пропорция, схваченная на глаз, а не добытая точным исчислением; но неполные поземельные описи, сохранившиеся от того века, показывают, что она вообще не особенно далека от действительности, а по местам близко к ней подходила. Некоторые монастыри выделялись из ряда других своим земельным богатством. За Кирилловым Белозерским монастырем в 1582 г. числилось до 20 тысяч десятин пашни, не считая пустырей и леса. Английский посол Флетчер, приехавший в Москву в 1588 г., пишет, что русские монастыри сумели занять лучшие и приятнейшие места в государстве, что некоторые из них получают поземельного дохода от 1 тысячи до 2 тысяч рублей (не менее 40—80 тысяч на наши деньги). Но первым богачом из всех церковных землевладельцев Флетчер признает Троицкий Сергиев монастырь, который будто бы получал поземельных и других доходов до 100 тысяч рублей ежегодно (до 4 миллионов рублей). Такая масса земельного богатства ускользала от непосредственного распоряжения государственной власти в то время, когда усиленное развитие поместного владения все больнее давало ей чувствовать недостаток земли, удобной для хозяйственного обеспечения вооруженных сил страны.
Вопрос о монастырских вотчинах
Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идее иночества: оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства. Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность. Уже в XIV в. стригольники восставали против вкладов по душе и всяких приносов в церкви и монастыри за умерших. Но то были еретики. Скоро сам глава русской иерархии выразил сомнение, подобает ли монастырям владеть селами. Один игумен спрашивал митрополита Киприана, что ему делать с селом, которое князь дал в его монастырь. Святые отцы, отвечал митрополит, не предали инокам владеть людьми и селами; когда чернецы будут владеть селами и обяжутся мирскими попечениями, чем они будут отличаться от мирян? Но Киприан останавливается перед прямым выводом из своих положений и идет на сделку: он предлагает село принять, но заведовать им не монаху, а мирянину, который привозил бы оттуда в монастырь все готовое, жито и другие припасы. И преподобный Кирилл Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков и ропоту братии, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины. Но сомнение, раз возникнув, повело к тому, что колеблющиеся мнения обособились в два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVI в. и оставивший яркие следы в литературе и законодательстве того времени. В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника — из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин; другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое направление проводил преп. Нил Сорский, второе — преп. Иосиф Волоцкий.
Нил Сорский
Постриженник Кириллова монастыря, Нил долго жил на Афоне, наблюдал тамошние и цареградские скиты и, вернувшись в отечество, на реке Соре в Белозерском краю основал первый скит в России. Скитское жительство — средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит похож и на особняк своим тесным составом из двух-трех келий, редко больше, и на общежитие тем, что у братии пища, одежда, работы — все общее. Но существенная особенность скитского жития — в его духе и направлении. Нил был строгий пустынножитель; но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях. Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем скитском уставе. По этому уставу подвижничество — не дисциплинарная выдержка инока предписаниями о внешнем поведении, не физическая борьба с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами. «Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: бог уму внимает». Скитский подвиг — это умное, или мысленное, делание, сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая в том, чтобы «умом блюсти сердце» от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними — мысленная, духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом. Этой борьбой достигается такое воспитание ума и сердца, силой которого случайные, мимолетные порывы верующей души складываются в устойчивое настроение, делающее ее непреступной для житейских тревог и соблазнов. Истинное соблюдение заповедей, по уставу Нила, не в том только, чтобы делом не нарушать их, но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их нарушения. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, «неизреченная радость», когда умолкает язык, даже молитва отлетает от уст и ум, кормчий чувств, теряет власть над собой, направляемый «силою иною», как пленник; тогда «не молитвой молится ум, но превыше молитвы бывает»; это состояние — предчувствие вечного блаженства, и, когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя, и всех, здесь, на земле, сущих. Таково скитское «умное делание» по уставу Нила. Перед смертью (1508 г.) Нил завещал ученикам бросить труп его в ров и похоронить «со всяким бесчестием», прибавив, что он изо всех сил старался не удостоиться никакой чести и славы ни при жизни, ни по смерти. Древнерусская агиография исполнила его завет, не составила ни жития его, ни церковной ему службы, хотя церковь причислила его к лику преподобных. Вы поймете, что в тогдашнем русском обществе, особенно в монашестве, направление преп. Нила не могло стать сильным и широким движением. Оно могло собрать вокруг пустынника тесный кружок единомысленных учеников-друзей, влить живительную струю в литературные течения века, не изменив их русла, бросить несколько светлых идей, способных осветить всю бедноту русской духовной жизни, но слишком для нее непривычных. Нил Сорский и в белозерской пустыне остался афонским созерцательным скитником, подвизавшимся на «умной, мысленной», но чуждой почве.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)"
Книги похожие на "Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Василий Ключевский - Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)"
Отзывы читателей о книге "Курс русской истории (Лекции XXXIII—LXI)", комментарии и мнения людей о произведении.