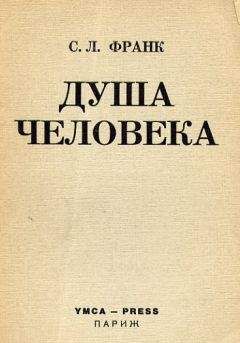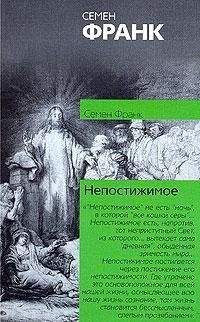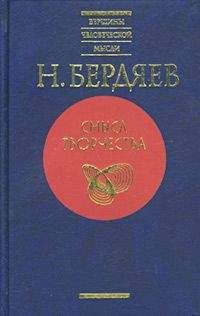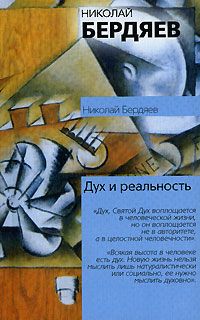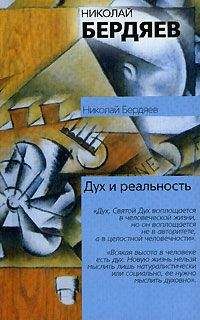Владимир Зелинский - Священное ремесло. Философские портреты
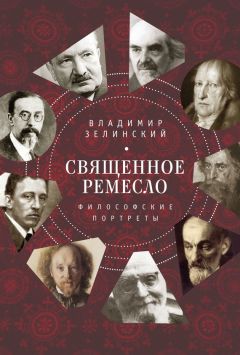
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Священное ремесло. Философские портреты"
Описание и краткое содержание "Священное ремесло. Философские портреты" читать бесплатно онлайн.
«Священное ремесло» – книга, составленная из текстов, написанных на протяжении 45 лет. Они посвящены великим мыслителям и поэтам XX столетия, таким как Вячеслав Иванов, Михаил Гершензон, Александр Блок, Семен Франк, Николай Бердяев, Яков Голосовкер, Мартин Хайдеггер и др. Они были отмечены разными призваниями и дарами, но встретившись в пространстве книги, они по воле автора сроднились между собой. Их родство – в секрете дарения себя в мысли, явно или неявно живущей в притяжении Бога. Философские портреты – не сумма литературоведческих экскурсов, но поиск богословия культуры в лицах.
«Отчасти “Исус Христос” у Блока списан поэтом с себя. И противоречивое отношение Блока к нему – это проекция его отношения к себе» (Е. А. Ермолин. Репетиция Апокалипсиса).
Т.е. Блок узнает себя в олицетворенном «духе музыки», ведущем ночной патруль красных апостолов?
Достоевский признавался, что предпочел бы остаться со Христом вне истины, чем с истиной вне Христа. Блок такого о себе повторить никогда бы не мог. Христос был для него лишь частью того «песенного сказанья», той «лирической величины», какой представлялась ему Россия. Христос был лишь частью той истины, которая называлась у него так интуитивно смутно: «духом музыки». Но и расстаться с этим «духом», постоянно выносящим Христа из «музыки» к слову, Блок тоже не мог. Поэт, хоть «он и слов кощунственных творец», ощущает это имя как нечто неотъемлемое от его лирических глубин. Вчитываясь в некоторые его стихи, мы пытаемся расслышать, что же лежит у него в истоке: музыка, Россия, Христос, или же эти темы слиты у него в одну:
Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.
Теперь пастуший кнут не свистнет,
И песни не споет свирель.
Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.
Навеки непробудной ленью
Ресницы мхов опушены,
Спят, убаюканные ленью
Людской врагини – тишины.
И человек печальной цапли
С болотной кочки не спугнет,
Но в каждой тихой, ржавой капле
Зачало рек, озер, болот.
И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.
Стихотворение, как это часто бывает у Блока, поначалу кажется плотно окутанным звуковой тканью; чтобы войти в него, нужно отодвинуть его музыкальный полог. Строй стиха сразу же овладевает какими-то ритмами и речениями внутри нас, и мы незаметно оказываемся в его песенных узах. Мы как будто запутываемся в той невесомой полупрозрачной материи, которой стихотворение занавешено. На занавесе изображен пейзаж чуть стилизованного васнецовского леса, за которым мы видим сцену, где разворачивается видимое действие стихотворения, его «сюжет». Перед нами звучащее воспоминание о русских раскольниках. Со старообрядческой Русью Блок, вероятно, мог соприкоснуться, скорее всего, через искусство. За три года до написания стихотворения он видел Хованщину, оперу Мусоргского, в финале которой происходит массовое самосожжение староверов, выслеженных в глухих лесах царскими войсками. «Христа сжигающего» он мог услышать и в музыке оперы. Тогда он писал матери:
«“Хованщина” еще не гениальна (то есть не дыхание Св. Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только еще готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание духа…».
«Дыхание духа» воспринимается поэтом сквозь звуковые волны. Блок хочет разгадать их исток. За музыкой оперы, за дыханием России созревает гениальное будущее – гармония воплощенная. В стремлении к точному и тайному именованию ее сути – гармонии, гениальности и России – Блоку приходит на память одна из ипостасей Святой Троицы. Там, где проносится дыхание духа, видит он и очистительного «сжигающего Христа»…
Открытая сцена стихотворения представляет нам Русь раскольничью. Она отодвинута в глубину, в даль и быль, быльем поросшую, в глухую, ленивую глушь. Ритмический путь к ней начинается еще раньше – почти из былинной древности. К раскольничьему, к мятежному Христу последней строфы приводит нас давно умолкшая песня дедов. Первые строки стихотворения доносят некогда начатую и затерявшуюся где-то песню, соединяют нас с таинственно огненным духом музыки. Блока делала великим поэтом его способность воспринимать музыкальную сущность мира, слышать подземное его звучание, не заглушаемое текущим временем – «в душе или извне – этого Блок никогда не знал» (Л. Д. Блок. Были и небыли).
Некогда эта звуковая речь и вправду говорила на Руси. Может быть, она сама и была Русью. Она собирала своих верных и слышащих, всех способных воспринять сердцем ее тайный повелительный зов. Но мир и тогда был недостаточно музыкальным, и людские скопления в городах уже в XIV–XV веках, да и раньше, казалось, заглушали в сердцах посылаемые знаки. Те, кто были привлечены этим зовом, уходили из городов в нехоженые дебри, чтобы там, повинуясь призыву, трудиться молитвой и жить духовным деланием. Лишь молитвенным ритмом они были связаны, ничего не зная друг о друге. Но молва об их затерявшемся в лесах подвижничестве привлекала других; так рождалась община, возникал устав, монастырь, и как завершение молитвенной гармонической темы вырастал среди леса купол небольшого бревенчатого храма, где, должно быть, долго и хорошо пахло смолой и свежесрубленным деревом. Иноки ставили там престол и освящали его именем Святой и Живоначальной Троицы
И пели о своем Христе.
Это не уложилось в признания, осталось догадкой, но древняя раскольничья песня была внятна и душе Блока, донесена до нее струением тех молитв, сонмом тех святых, поднявшихся над Русью и навеки оставшихся – «когда-то там на высоте» – причастными блоковской памяти, музыкальной и церковной.
Но ныне небесные эти дали плотно закрыты; на переднем плане – сырые ведьмины мхи, недоброе безлюдье, томительная недосказанность русского севера. «Убогая финская Русь», – как называл ее Блок, и кругом нее – опущенность, обреченность. И все же музыка не умерла, но спит. Ею напоена сырая земля. Она наполняет болота, стекается по каплям из лесной глуши. Русь болотная чревата сжигающей бурей. Буря, когда она разразится, будет носить имя Христа.
Тема осени и болот проникает в поэзию Блока и неожиданно разрастается в ней. Зловещий покой болот и осень имеет для поэта двоякий смысл: «вольный разгул и распятие» (Г.Федотов). Из осени, разгула, распятия и болот возникает блоковский Петербург, тот, по его словам, «самый страшный и царственный город в мире», выросший на болотах, полный темных видений, Петербург незнакомок, лачуг, кабаков, набухающий революцией и Двенадцатью…
Болота и осень царствуют и за городом. Горючие срубы давно сожжены, дедовской песни ниоткуда не слышно. «Единственный общий враг наш, – пишет Блок матери (1909), – российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники…». История пошла прахом, былая музыка иссякла в ней. «Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень» (Ни сны, ни явь).
Ныне те, кто вглядываются в русскую революцию, стремясь постичь ее смысл, должны разгадать его и в душе Блока. «Революция произошла для того, чтобы Блок написал “Двенадцать”», – написал поэт Илья Сельвинский, иронизируя над самим собой. Но эта нелепость может стать истиной, если помножить ее на другую нелепость: революция произошла оттого, что ритм и разгул Двенадцати уже скопились в сердце Блока. И это вечно романтическое отречение от «старого мира», гнетущая усталость от него. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте Революцию», – призывал он накануне Двенадцати, уже слыша, как соединяется в нем заветная музыка и упоительная любовь к гибели…
«Сирень была столетняя, – продолжает Блок, – кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней – березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей – овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня совсем».
Из своего имения Блок следит за близящимся развалом и хочет соучаствовать в нем. Чем вызвать очистительную бурю: ударами топора, музыкальным заклятьем, пьяным, осенним посвистом? Блок пойдет туда, куда повлечет его стихия, куда позовет его «сжигающий Христос», которому во всех раздвоениях своих он остается верен. «Религия – грязь (попы и др.), – записывает он после Двенадцати. – Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы “недостойны” Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой». (,Дневник, 20 февраля 1918 года).
Комментарий Орлова (блоковеда): «“Другой”, более достойный вести народ в будущее…» (Поэма Александра Блока «Двенадцать»).
Комментарий Долгополова (блоковеда): «Стихия требовала от Блока безоговорочного подчинения, ибо, какой бы она ни была, ее руками творилась история. Блок подчинился ей. Это было подчинение исторической необходимости, самой истории…» (Цит. по А. Якобсону Конец трагедии).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Священное ремесло. Философские портреты"
Книги похожие на "Священное ремесло. Философские портреты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Зелинский - Священное ремесло. Философские портреты"
Отзывы читателей о книге "Священное ремесло. Философские портреты", комментарии и мнения людей о произведении.