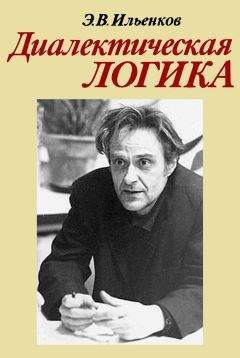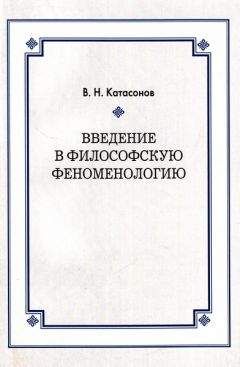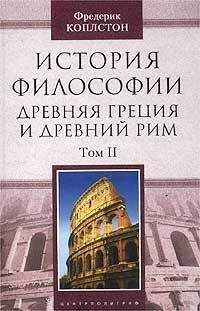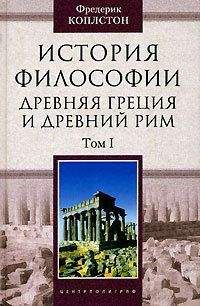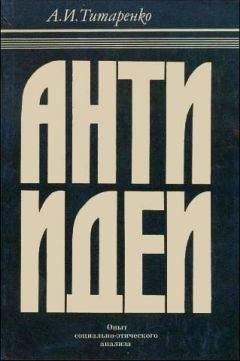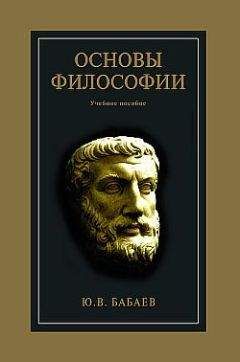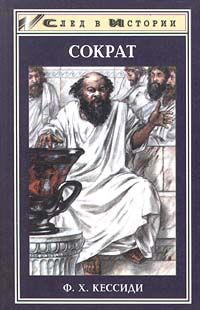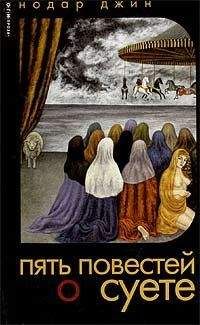Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Описание и краткое содержание "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии." читать бесплатно онлайн.
Книга доктора философских наук Ю. Н. Давыдова посвящена проблемам нравственной философии: страх смерти и смысл жизни, этический идеал и нигилизм, преступление и раскаяние и т. д. В книге рассматривается традиция этической мысли, восходящая к литературному творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского. Нравственная философия русских писателей противопоставляется аморализму Ницше и современных ницшеанцев, включая таких философов, как Сартр и Камю.
Книга рассчитана на молодого читателя.
Рецензенты: академик М. Б. Митин; доктор философских наук, профессор В. А. Карпушин; доктор философских наук, профессор И. К. Пантин.
© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.
М.: Мол. гвардия, 1982. — 287 с, ил. В пер.: 75 к., 50 000 экз.
Номер страницы следует за страницей – (прим. сканировщика)
В философской литературе нечасто можно встретить книгу настолько же интересную, насколько и важную для каждого человека, если он, конечно, человек. Автор ясно и честно отвечает на жестокие вопросы, от ответов на которые прямо зависит наша судьба – (прим. форматировщика FB2)
И эта пытка — пытка смертью, которой, как мы видели, был подвергнут не только знавший о своей безнадежной болезни Иван Ильич, но и вполне здоровый автор «Записок сумасшедшего» (имеется в виду тот, кого Толстой представляет нам в качестве этого автора, хотя и наделяет его многими из своих собственных переживаний, о которых поведал в своей «Исповеди» и дневниковых записках), продолжалась до тех пор, пока человек ощущал себя один на один со «своей собственной» смертью. А было это всего-навсего лишь другой формой понимания им жизни — бытия вообще — исключительно как «своей собственной», данной ему, и только ему: переживание, целиком и полностью отделявшее «вот этого» индивида от всех «других», абсолютно «безлюбое» переживание. И кончилась эта пытка лишь в тот момент, когда такому человеку — этой «безоконной монаде» — удалось наконец прорваться к другим, «прорубить окно» из своего герметически замкнутого бытия к бытию с другими и в других.
Вот как происходил этот переворот у Ивана Ильича, которого главный вопрос его жизни — вопрос о смысле жизни вообще — застал лишь на смертном одре, получив «превращенную форму» вопроса о бессмысленности смерти, обессмысливающей и всю предшествующую ей жизнь. «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том
черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его.
Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.
«Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что же «то»?» — спросил он себя в вдруг затих. (...).
...Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.
«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», — подумал он. И указал жене взглядом на сына и сказал:
— Уведи... жалко... и тебя...
И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг выходит сразу... Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. (...).
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было» [19].
60
Вся эта сцена потрясает своей внутренней достоверностью: здесь нет ничего надуманного. Человек, лежащий на смертном одре, мучимый безысходным страхом смерти, освобождается от этого мучения в тот момент, когда ему — самому ли или с помощью близких его — удается разорвать окостеневшую скорлупу своего «я», одичавшего перед лицом смерти. Он вдруг всем существом своим постигает, что и «другие» могут страдать и действительно страдают, причем страдают, сострадая ему, его мучениям. Смерть, как что-то отъединяющее умирающего от остальных, разверзающее непреодолимую пропасть между ним и «всеми остальными», — а тем самым лишь доводящая до последовательного вывода его' изначальную «дистанцированность» от людей, неспособность пробиться от «я» — к «ты», «мы», к «они», — эта смерть и впрямь исчезает для человека, прорвавшегося к «другому» («другим») хотя бы и на смертном ложе. Она перестает его завораживать, он перестает ее бояться, ибо понимает: жизнь не кончается вместе с ним, она продолжается в его близких и любимых, а с ними, в них — живет и он.
Так, согласно Толстому смерть как бессмыслица, как зло побеждается любовью, сообщающей осмысленность даже индивидуальной человеческой кончине. Это и означают последние слова Ивана Ильича: «Кончена смерть... Ее нет больше» [20]. Смерть, которая мучила его больше всего, была олицетворением его собственного эгоистического, «безлюбого» существования, герметически замкнутого на себя. Страх смерти был болезненной «проекцией» существования одичавшего «я», в котором все человеческое пожиралось обезумевшим инстинктом самосохранения: «я», которое вообще «забыло» о том, что на свете существуют «другие», «уничтоженные» этим «я» только за то, что им не предстояло умереть с сегодня на завтра. Нужно было вспомнить о них — вспомнить по-настоящему, приняв их в себя изнутри, пережив их горечь, их тревогу, их боль. Тогда кошмар всемогущей Смерти исчез: осталась жизнь, бытие — как дар человечеству, который не перестает быть даром оттого, что каждому человеку предстоит умереть.
Критика воззрений Толстого в русле ницшеанской интеллектуальной ориентации
В толстовской постановке вопроса о смысле жизни существенно важную роль играет исходная предпосылка, согласно которой вопрос этот не может быть правильно поставлен как вопрос «одиночки», штирнеровского «единственного», или, говоря более современным языком, «атомизированного человека». Дело в том, что само бытие этого человека, коль скоро оно переживается им как
61
его — «исключительная» (и «исключающая» всех «других») — собственность, нечто оторванное и обособленное от бытия «остальных» людей, представляется русскому писателю чем-то глубоко неистинным. А раз это так, то и ответ, который может дать человек, отправляясь от этого своего бытия, неизбежно будет ложным, если он будет отнесен к бытию вообще, бытию как таковому. Ложный хотя бы уже потому, что для «одиночки», «монады», «единственного» не существует главного в бытии: его целостности, его «неделимости», его «всеединства». И в этой своей постановке вопроса Толстой глубоко традиционен, поскольку в ней нашла свое выражение нравственная установка народа, не мыслящего себе бытие иначе как данным всем людям, всему «миру». В этом отношении Толстой очень близок Достоевскому, который здесь даже более традиционен, чем автор «Смерти Ивана Ильича».
Одна из важнейших проблем, волновавших Достоевского, была проблема «почвы» и оторванности от нее значительной части российского образованного общества. Отсюда возникает у него и проблема нигилизма, поставленная русским писателем с такой широтой и размахом, что Фридриху Ницше, который также наткнулся на проблему «европейского нигилизма» и извлек из нее целую философию истории (она была развита затем О. Шпенглером и М. Хайдеггером и другими философами XX века), было чему поучиться у автора «Бесов».
Проблема смысла жизни, как ставит ее Толстой, и проблема нигилизма, как формулирует ее Достоевский, уходят своими истоками в одну и ту же народную традицию.
Нигилизм, с точки зрения Достоевского, — это прежде всего такое состояние человеческого сознания, которое возникает при утрате человеком ощущения осмысленности жизни, уверенности в том, что бытие вообще имеет какой бы то ни было смысл. Причину утраты смысла жизни автор «Бесов» видит в потере нравственных абсолютов, каковая сама, в свою очередь, является результатом отрыва от почвы, на которой согласно Достоевскому только и держатся эти абсолюты, — от нравственной жизни народа. Ведь ни один народ, по убеждению русского писателя, не может жить, не опираясь на моральные абсолюты. В этом существенно важном моменте точка зрения Достоевского ближе всего со-
прикасалась с толстовской: подчас даже кажется, что Толстой заимствовал ее у автора «Бесов». Гарантированные всею нравственной жизнью народа нравственные абсолюты, по убеждению Толстого и Достоевского, воспринимаются в качестве таковых и каждым человеком, коль скоро он еще связан с этой жизнью. Однако стоит только оторваться ему от этой нравственной субстанции, как он утрачивает и веру в абсолютность своих абсолютов. Жизнь его теряет высший смысл, и он становится нигилистом, по крайней мере, в возможности. А когда возможность станет действительностью — это лишь вопрос времени и обстоятельств.
Пока речь идет об общей постановке вопроса о смысле жизни, позиции Толстого и Достоевского представляются едва ли не тождественными, хотя первого при этом волнует один аспект проблемы («обессмысливание» жизни и страх смерти), а второго — другой («обессмысливание» жизни и неизбежность преступления). Но когда каждый из этих русских писателей начинает уточнять, что он понимает под нравственной субстанцией народной жизни, «гарантирующей» для каждого индивида «абсолютность» его абсолютов, веру в осмысленность бытия, их пути расходятся. Если для Достоевского эта субстанция раскрывается прежде всего как национальная, то для Толстого она прежде всего социальная. Первого более всего интересовала принадлежность его персонажей к русскому народу, второго — принадлежность к русскому народу. Первый оценивал каждого из своих персонажей в зависимости от его самоотождествления с национальной традицией, второй — в зависимости от включенности его в трудовой уклад. Если для одного нравственная перспектива России была тесно связана с ее будущим в качестве государства и народа, утверждающих национальную идею, то для другого она была связана с будущим народа, утверждающего свою моральную идею как социальную, а свою социальную идею как моральную. Тот срез народной жизни, который берет Толстой, характеризуется слиянием — вплоть до их полной неразличимости — нравственного и социального аспектов человеческого существования. Поскольку же он считал, что эта ткань народной жизни неуничтожима, что она будет существовать до тех пор, пока перед человечеством остается задача трудового воссоздания, «творчества» жизни, поскольку он был убежден, что его понимание смысла жизни не утратит своего значения и в будущем, хотя, быть может, число людей, не участвующих в непосредственном процессе жизнетворчества, и возрастет.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Книги похожие на "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Отзывы читателей о книге "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.", комментарии и мнения людей о произведении.