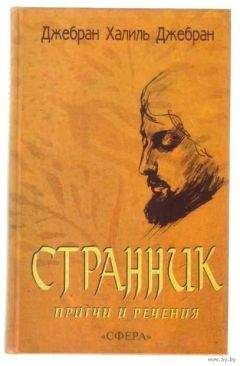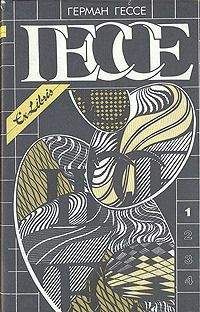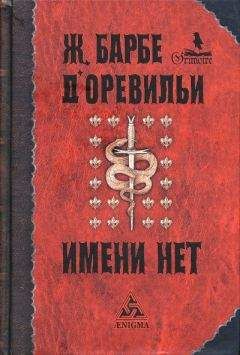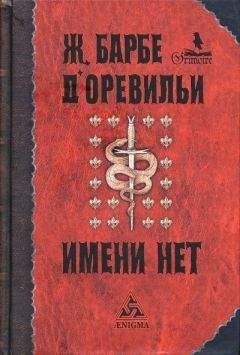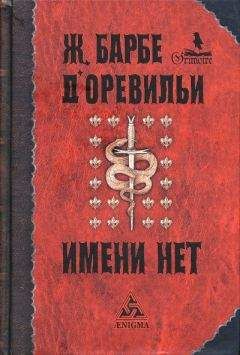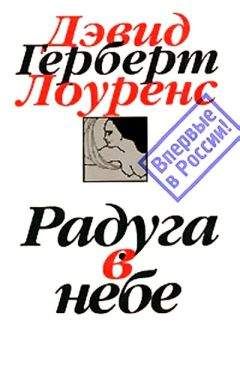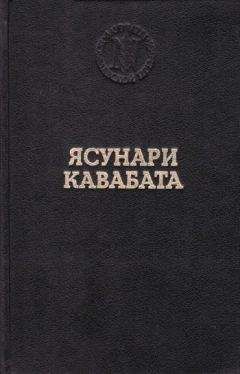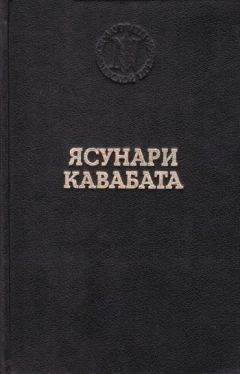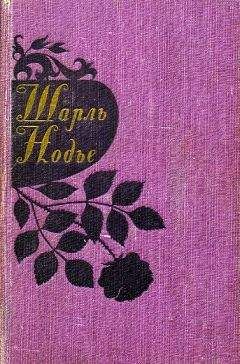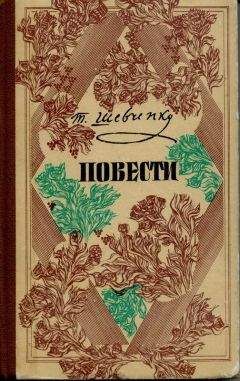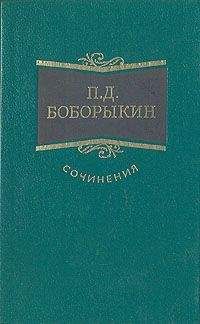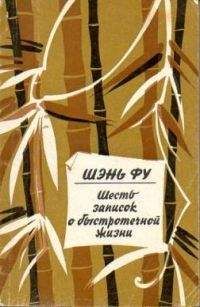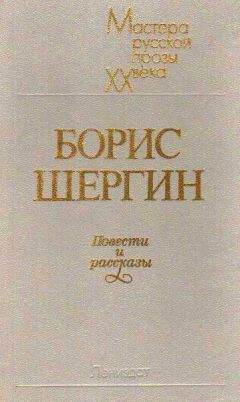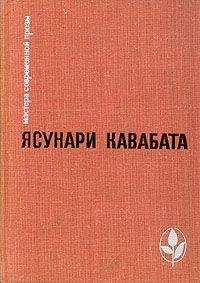Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Дьявольские повести
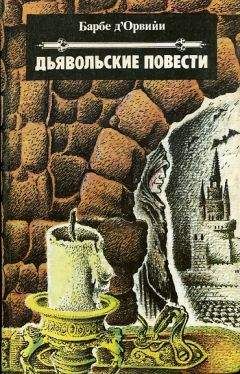
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дьявольские повести"
Описание и краткое содержание "Дьявольские повести" читать бесплатно онлайн.
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.
В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.
Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи». Так более правильно с точки зрения устоявшейся транскрипции французских имен (d'Aurevilly), опирающуюся более на написание, чем на реальное произношение, и подтверждено авторитетом М. Волошина, который явно лучше современных переводчиков знал и русский и французский языки. Тем более, что эта транскрипция более привычна русскому читателю (сб. «Святая ночь», М., Изд-во политической литературы, 1991; «Литературная энциклопедия» и т. д.).
Amfortas
«На, получай сердце своего ублюдка, раз тебе так хочется, бесстыдница, потаскуха!» — взвыл майор и залепил ей прямо в лицо этим сердцем, которое обожал. Не зря говорится: беда одна не ходит. Одно святотатство рождает другое. Пудика, вне себя, сделала то же, что сделал Идов. Она швырнула ему в лицо сердце ребенка, о ком, возможно, пеклась бы, не будь он сыном ненавистного мужчины, которому ей хотелось воздать мукой за муку, позором за позор! Бесспорно, еще никогда мир не видел подобной мерзости: отец и мать лупят друг друга по лицу сердцем их мертвого ребенка!
Кощунственная свалка длилась несколько минут. И она была так удивительно трагична, что мне даже в голову не пришло навалиться плечом на дверцу шкафа, пока крик — ни я, ни вы, господа, в жизни не слыхивали такого, а ведь мы наслушались немало ужасного на полях сражений! — не придал мне сил вышибить дверцу и я не увидел… того, чего уже никогда не увижу! Сбитая с ног Пудика рухнула на стол, за которым писала, и майор железной рукой удерживал ее в этом положении, хотя она, чья одежда задралась, обнажив все ее прекрасное тело, извивалась, как разрубленная змея. Но, что, по-вашему, он делал другой рукой? Письменный стол, зажженная свеча, воск рядом с ней — все эти обстоятельства подсказали майору адскую идею: запечатать женщину, как она запечатала письмо, и он ожесточенно предавался этому чудовищному занятию, этой страшной мести извращенно ревнивого любовника.
«Ты наказана через то место, которым грешила, негодяйка!» — вопил Идов.
Майор не видел меня. Он наклонился над жертвой, которая больше не кричала, и вместо печати прижимал к кипящему воску шишечку на эфесе своей сабли!
Я ринулся на него, даже не предупредив противника: «Защищайся», — и по самую рукоять всадил ему клинок в спину между лопаток; я был бы рад погрузить ему в тело не только саблю, но и руку — так мне хотелось его прикончить!
— Правильно поступил, Мениль, — сказал майор Селюн. — Этот душегуб не заслуживал смерти от удара спереди, как любой из нас.
— Но это же история Абеляра, переписанная на Элоизу![230] — заметил аббат Ренега.
— Интересный хирургический случай, — отозвался доктор Блени. — И очень редкий!
Однако Менильграна понесло и было не удержать.
— Идов упал мертвым на свою лишившуюся чувств сожительницу. Я оторвал его от нее, швырнул на пол и пнул труп ногой. На крик, изданный Пудикой, крик, похожий на утробный вой волчицы и пронизавший меня до мозга костей, снизу подоспела горничная.
«Ступайте за хирургом восьмого драгунского: сегодня ночью для него найдется работа», — приказал я.
Но дождаться хирурга мне не удалось. Внезапно горн, призывая к оружию, яростно загремел: «По коням!» Неприятель, сняв ножами наших часовых, застал нас врасплох. Пришлось садиться на коней. Я бросил последний взгляд на великолепное тело, впервые побледневшее и неподвижное перед взором мужчины. Но до того как выбежать, я подхватил валявшееся на пыльном полу бедное сердце, с помощью которого Идов и Розальба пытались унизить и втоптать в грязь друг друга, и унес за своим гусарским поясом эту частицу ребенка, которого Пудика назвала моим.
Здесь шевалье де Менильграна остановило волнение, к которому проявили уважение даже эти материалисты и гуляки.
— А Пудика? — почти робко полюбопытствовал Рансонне, перестав поглаживать свой бокал.
— Я больше не имел известий о Розальбе, она же Пудика, — ответил Менильгран. — Умерла она или выжила? Сумел ли хирург добраться до нее? После рокового для нас дела при Алькудии, где мы были застигнуты врасплох, я попытался его разыскать, но безуспешно. Он исчез, как столь многие, и не присоединился к остаткам нашего изрядно поредевшего полка.
— Это всё? — осведомился Мотравер. — Если да, то история знатная. Ты был прав, Мениль, обещая разом дать Селюну сдачи с его восьмидесяти изнасилованных и брошенных в колодец монахинь. Но только если уж Рансонне размечтался за своей тарелкой, я сам вернусь к поставленному им вопросу. Какое отношение к этой истории имеет твой недавний приход в церковь?
— Правильно сделал, что напомнил, — одобрил Менильгран. — Итак, вот что мне остается рассказать тебе и Рансонне: я много лет как реликвию носил с собой сердце ребенка, хотя и сомневался в его происхождении; но когда после катастрофы при Ватерлоо мне пришлось снять офицерский пояс, в котором я надеялся умереть и в котором проносил бы это сердце еще несколько лет, уверяю тебя, Мотравер, весит оно порядочно, хотя на вид и легкое, — я поразмыслил с годами и, убоясь еще больше осквернить эту и так уже оскверненную святыню, решил по-христиански схоронить его в землю. Не вдаваясь в подробности, которые изложил вам сегодня, я в исповедальне придела переговорил с одним из здешних священников об этом сердце, так долго обременявшем мое, и тут, на середине бокового прохода, Рансонне сгреб меня в охапку.
Капитан Рансонне, видимо, был удовлетворен. Он не произнес ни звука, остальные — тоже. Никто не отважился размышлять вслух: молчание, более выразительное, чем слова, заткнуло всем рот.
— Да подавайте же кофе! — распорядился старый г-н де Менильгран своим головным голосом. — Будет недурно, если он окажется так же крепок, как твоя история.
Месть женщины
Fortiter[231]
Я нередко слышал разговоры о смелости современной литературы, но сам никогда в такую смелость не верил. Этот упрек — всего лишь хвастовство с моральной подкладкой. Литература, которую издавна почитают выражением жизни общества, вовсе ее не выражает, скорее напротив, а если какой-нибудь автор пытался быть посмелее, один Бог знает, какие это вызывало бы вопли! Конечно, если хорошенько присмотреться, литература не обличает и половины преступлений, которые общество втайне и безнаказанно совершает изо дня в день с очаровательным постоянством и легкостью. Спросите у исповедников, кто был бы величайшим романистом на свете, имей они право рассказывать то, что шепчут им на ухо в исповедальне. Спросите их, мало ли случаев кровосмешения, например, в самых гордых и высокопоставленных семьях, и вы убедитесь, что литература, которую так обвиняют в безнравственности и смелости, никогда не дерзает о них рассказывать даже для того, чтобы припугнуть читателя. Если не считать намека шепотом в «Рене»[232] Шатобриана, религиозного Шатобриана, потому что там это говорится шепотом и замирает, как шепот, я не знаю ни одной книги, сюжетом которой являлся бы откровенно названный инцест,[233] столь характерный для наших нравов как на вершине общества, так и в его низах, ни одного рассказа, который сделал бы из подобного сюжета подлинно трагические нравственные выводы. Разве современная литература, в которую ханжество тоже бросает свой камешек, осмелилась бы когда-нибудь поведать истории Мирры, Агриппины и Эдипа,[234] а ведь они, наверное, представляют собой вечные и всегда животрепещущие истории, потому что единственный — по крайней мере, до сих пор — ад, в котором я жил, это ад социальный, и я, со своей стороны, знавал и даже толкал локтями немало Мирр, Эдипов, Агриппин и в частной жизни, и, как говорится, в свете? Черт возьми, это всегда происходило не на театре и не в истории! Но это проглядывалось сквозь социальную оболочку, предосторожности, страх и лицемерие. Я знаю — и весь Париж тоже — некую госпожу Генрих Третий, которая носит на поясе платья из голубого бархата четки в форме крошечных золотых черепов и подвергает себя бичеванию, угощаясь таким образом рагу из покаяния вкупе с другими забавами Генриха Третьего. Кто составит жизнеописание этой особы, которая сочиняет назидательные книжки и которую иезуиты почитают (маленькая и презабавная деталь!) мученицей и даже святой?.. Не столь уж давно весь Париж видел, как дама из предместья Сен-Жермен отняла у матери любовника, а когда он вернулся к той, поскольку последняя, хоть уже старуха, умела влюблять в себя лучше, чем дочь, так разъярилась, что выкрала у родительницы страстные ее письма к этому не в меру любимому мужчине, отдала их перелитографировать и разбросала тысячи оттисков из райка (подходящее название для места совершения подобного поступка!) Оперы в день премьеры. Кто написал о ней?.. Бедная литература не знает даже, с какого конца подступиться к такой истории.
А это ей следовало бы сделать, будь она действительно смелой. У истории есть Тациты и Светонии,[235] у романа их нет — по крайней мере, пока он остается в возвышенных нравственных границах искусства и таланта. Правда, язычница латынь пренебрегает стыдливостью, тогда как наш язык воспринял крещение вместе с Хлодвигом в купели Святого Ремигия[236] и почерпнул там неизбывную застенчивость, потому что, даже состарившись, не разучился краснеть. Тем не менее, осмелься романисты осмелиться, они могли бы стать Светониями и Тацитами, потому что роман есть именно история нравов, изложенная в повествовательной и драматичной форме, как это часто делает и сама история. Разница лишь в том, что один (роман) живописует нравы через вымышленные персонажи, другая (история) указывает подлинные имена и адреса. Вот только копает роман глубже, чем история. У него есть идеал, а у истории — нет: ее обуздывает действительность. Кроме того, роман занимает сцену на более длительный срок. Ловлас живет дольше, чем Ричардсон[237] или Тиберий у Тацита. Но разве, будь Тиберий у Тацита так же детализирован, как Ловлас у Ричардсона, история проиграла бы и Тацит был бы менее суров? Конечно, я не побоюсь добавить, что Тацит как художник оказался бы ниже, чем Тиберий как модель, и что, несмотря на весь свой гений, он был бы раздавлен огромностью задачи. И это не все. К этой необъяснимой, но очевидной слабости литературы следует, сравнивая ее подлинное состояние с приобретенной ею репутацией, добавить облик, который преступление обрело в нашу несравненно и восхитительно цивилизованную эпоху! Предельная цивилизованность лишает преступление его страшной поэтичности и не позволяет писателю вернуть ее ему. Это было бы слишком ужасно, говорят добрые души, которым хочется приукрашивать все, даже то, что отвратительно. О благодетельная филантропия! Дураки криминалисты умаляют тяжесть наказания, олухи моралисты — преступление, и делают это лишь для того, чтобы тоже умалить тяжесть наказания. Разумеется, при развитой цивилизации преступление более жестоко, чем во времена непроходимого варварства уже в силу своей утонченности, более глубокой развращенности и более высокого интеллектуального уровня, которые оно предполагает. Инквизиция хорошо это понимала. В эпоху, когда вера и нравы были еще прочны, этот трибунал, судивший мысль, это великое учреждение, одно упоминание о котором расстраивает наши слабые нервы и возмущает наши цыплячьи мозги, отлично понимало, что преступления в сфере духа — самые тяжкие из всех, и соответственно карало за них… И уже в силу того, что подобные преступления мало что говорят чувствам, они гораздо больше говорят мысли, а, в конечном счете, она и есть самое глубокое в нас. Следовательно, для романиста существует целый неведомый род трагического, которое можно извлечь из таких скорее интеллектуальных, нежели физических преступлений, каковые старое поверхностно материалистическое общество считает вроде как и не преступлениями, поскольку здесь не льется кровь и зверства совершаются лишь в области чувств и нравов… Образец трагедии такого вот рода мы и хотели предложить читателю, поведав историю устрашающе оригинальной мести, при которой не лилась кровь и не применялись ни сталь, ни яд, — словом, рассказать о цивилизованном преступлении, причем рассказчик не выдумал ни одной подробности: от него — только манера изложения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дьявольские повести"
Книги похожие на "Дьявольские повести" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Дьявольские повести"
Отзывы читателей о книге "Дьявольские повести", комментарии и мнения людей о произведении.