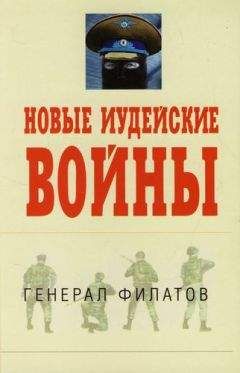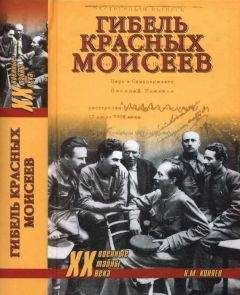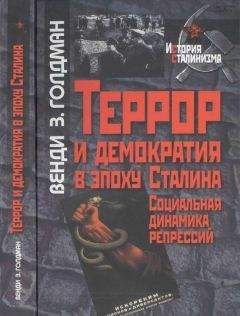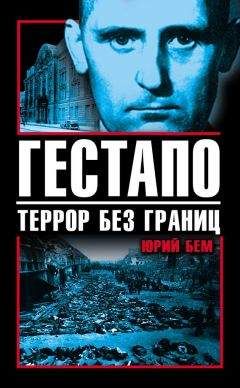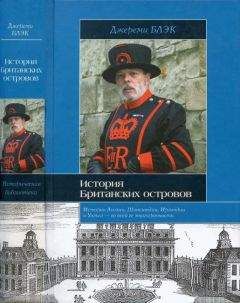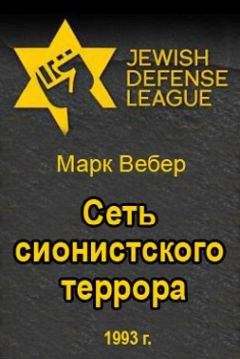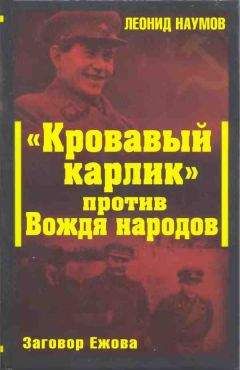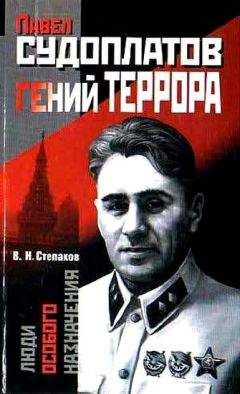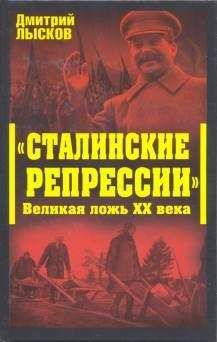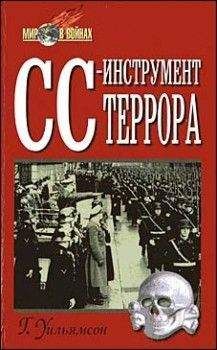Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора
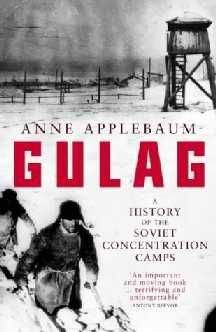
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Паутина Большого террора"
Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.
Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…
Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.
Мне трудно было убедить их в том, что на Западе рядовой человек, уделяющий некоторое внимание своей внешности, покупает несколько костюмов, потому что одежда сохраняется лучше, если ее время от времени можно менять. Советскому интеллигенту, который редко имеет более одного костюма, нелегко было это понять»[1021].
Американец Джон Нобл, арестованный в Дрездене, тоже стал «воркутинской важной персоной». Его рассказам об Америке солагерники не верили.
«Джонни, — сказал ему один, — ты еще, чего доброго, начнешь нас уверять, что американские рабочие разъезжают на собственных машинах»[1022].
Хотя иностранное происхождение восхищало других зэков, оно же мешало западным людям завязывать тесные отношения, служившие для многих источником поддержки. Липман писала:
«Даже мои новые лагерные „друзья“ боялись меня, потому что в их глазах я была иностранкой»[1023]. Экарт, оказавшись единственным нерусским заключенным на весь лагпункт, страдал от этого: советские граждане его не любили, он их тоже. «Меня окружала если не ненависть, то неприязнь… Им не нравилось, что я не такой, как они. На каждом шагу я сталкивался с их недоверием и грубостью, с их зловредностью и внутренней вульгарностью. Много ночей я провел без сна, боясь за себя и за свое имущество»[1024].
И вновь его переживания находят отражение в переживаниях былой эпохи. Описывая отношения между поляками и русскими в остроге XIX века, Достоевский показывает нам, что соотечественники Экарта испытывали примерно те же чувства, что и он:
«Поляки (я говорю об одних политических преступниках) были с ними[с другими каторжниками] как-то утонченно, обидно вежливы, крайне необщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетою»[1025].
В еще более уязвимом положении оказались мусульмане и другие заключенные из Средней Азии и с Кавказа. Они были так же дезориентированы, как западные люди, но, в отличие от них, не вызывали у русских никакого интереса и любопытства. Эти «нацмены» начали попадать в лагеря еще в 20-е годы. Их в больших количествах арестовывали во время усмирения и советизации Центральной Азии и Северного Кавказа. О тех, что попали на Беломорканал, в книге «Беломорско-Балтийский канал» сказано:
«Все непонятно им. Люди, которые ими руководят, канал, который они строят, и еда, которую они жуют»[1026].
С 1933 года такие заключенные работали и на строительстве канала Москва — Волга, где начальник лагеря, кажется, проявлял к ним сочувствие. Он приказал сконцентрировать их в отдельные бригады, артели и лагпункты, чтобы по крайней мере они могли быть вместе[1027]. Позднее Густав Герлинг-Грудзинский встречал таких «нацменов» в северном лесозаготовительном лагере. Каждый вечер он видел их в лазарете, ожидающих приема у лагерного врача:
«Уже в прихожей держась за животы, они с самого порога перегородки издавали резкий жалобный скулеж, в котором невозможно было отличить болезненные стоны от удивительно ломаной русской речи. На их болезнь не было лекарства… Они умирали от тоски по родным краям — от голода, холода и однообразной снежной белизны. Их косо сощуренные глаза, непривычные к северному пейзажу, не переставая слезились и зарастали желтой полоской гноя на ресницах. В редкие выходные дни узбеки, туркмены и киргизы собирались в один угол барака, празднично приодевшись в цветные шелковые халаты и узорчатые тюбетейки. Никогда нельзя было отгадать, о чем они так оживленно разговаривают — жестикулируя, перекрикивая друг друга и задумчиво кивая головами, — но уж наверняка не о лагере»[1028].
Немногим лучше приходилось корейцам (обычно это были советские граждане) и японцам, появившимся в ГУЛАГе и в лагерях для военнопленных в конце войны в ошеломляющем количестве — 600 000 человек. Японцы особенно страдали от пищи, не только скудной, но и непривычной для них, практически несъедобной. В результате они выискивали и ели то, что казалось столь же несъедобным другим заключенным, — дикие травы, насекомых, жуков, змей, грибы, каких не брали в рот даже русские[1029]. Иногда это кончалось плохо: есть сведения о японцах, насмерть отравившихся ядовитыми растениями. О том, как одиноко было японцам в лагерях, говорит эпизод из воспоминаний одного русского заключенного. Однажды он нашел где-то брошюру с докладом Жданова в переводе на японский язык и принес ее приятелю — японскому военнопленному.«…Я впервые увидел его таким радостным. Потом он говорил, что читал брошюру почти каждый день, наслаждаясь родным языком»[1030].
Представители некоторых других дальневосточных народов приспосабливались быстрее. Некоторые свидетели отмечают крепкую спаянность китайцев, одни из которых родились в СССР, другие легально приехали на заработки в 20-е годы, третьи были несчастливые люди, которые случайно или повинуясь некоему порыву пересекли очень длинную советско-китайскую границу. Один заключенный вспоминал рассказ китайца о том, как его, подобно многим другим, арестовали, когда он переплыл пограничную реку Амур, соблазненный заречными видами: «Зелень и золото листвы… Так красива была степь! Из тех наших, что переплывали реку, никто не возвращался. Мы решили, что там, должно быть, живется очень хорошо, и тоже решили переплыть. Едва мы это сделали, нас арестовали. Статья 58, пункт 6 — шпионаж. Десять лет»[1031].
Согласно воспоминаниям Дмитрия Панина, лагерного товарища Солженицына, китайцы «общались только между собой, не отвечали ни на какие вопросы, делая вид, что не понимают»[1032]. Карло Стайнер писал, что они очень хорошо умели устраивать друг друга на подходящие должности: «По всей Европе славятся китайские жонглеры и фокусники, а в лагерях китайцы работали в прачечных. Во всех лагерях, где я побывал, в прачечных только они и работали»[1033].
Но намного более сильные этнические группы образовали в ГУЛАГе прибалтийцы и западные украинцы, которых в массовом порядке отправляли в лагеря во время войны и после нее (см. главу 20). Не столь многочисленны, но также заметны были поляки (особенно польские партизаны-антикоммунисты, появившиеся в лагерях во второй половине 40-х годов) и чеченцы — нация, которая, по словам Солженицына, «совсем не поддалась психологии покорности» и в этом смысле выделялась из всех высланных народов[1034]. Сила этих этнических групп определялась их численностью и отчетливой антисоветской ориентацией. Арестованные после войны поляки, прибалтийцы и западные украинцы имели опыт военной и партизанской борьбы против советской оккупации, и в некоторых случаях их партизанские организации действовали и в лагерях. Вскоре после войны генеральный штаб Украинской повстанческой армии — одной из нескольких групп, боровшихся в то время за контроль над Украиной, — выпустил обращение ко всем украинцам, находящимся в ссылке или в лагерях: «Где бы вы ни были сейчас — в шахте, в лесу или в лагере, — всегда оставайтесь, какими были раньше, оставайтесь настоящими украинцами и продолжайте бороться».
В лагерях бывшие партизаны сознательно помогали друг другу и брали под опеку новоприбывших. Поляк Адам Галинский, сражавшийся в антисоветской Армии Крайовой как во время, так и после войны, писал:
«Мы особо заботились о молодежи из Армии Крайовой, поддерживали ее боевой дух — он был самым высоким в разлагающей атмосфере морального упадка, который преобладал среди разнообразных национальных групп в воркутинских лагерях»[1035].
Позднее, когда поляки, прибалтийцы и украинцы смогли оказывать большее влияние на руководство лагерями, они, как и грузины, армяне, чеченцы, получили возможность создавать свои бригады, жить в отдельных бараках, отмечать национальные праздники. Иногда эти сильные группировки сотрудничали между собой. Поляк Александр Ват писал, что украинцы и поляки, чьи партизанские отряды во время войны яростно враждовали между собой на Западной Украине, относились друг к другу в советских местах заключения «сдержанно, но невероятно лояльно: „Да, мы враги — но не здесь“»[1036].
Но порой этнические группы проявляли враждебность и друг к другу, и к русским. Людмила Хачатрян, арестованная за любовную связь с югославским военным, сказала, что прибалтийцы в ее лагере не любили работать с русскими и проявляли к ним антагонизм. Национальные группы сопротивления, отмечает один из авторов, «враждебно относятся и к режиму, и к русским». По мнению Эдуарда Буки, враждебность носила более общий характер: «Заключенные редко помогали людям другой национальности»[1037]. Однако Павел Негретов, который был в воркутинском лагере примерно в то же время, что и Бука, сказал мне, что люди разных национальностей хорошо ладили между собой, правда, администрация через своих стукачей пыталась спровоцировать рознь.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Паутина Большого террора"
Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"
Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.