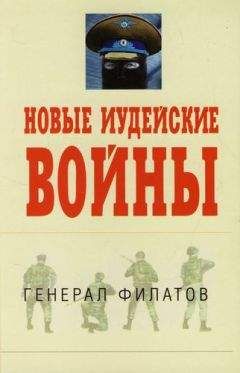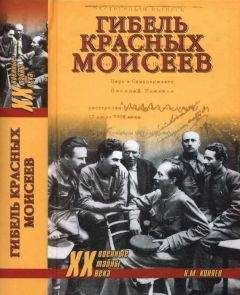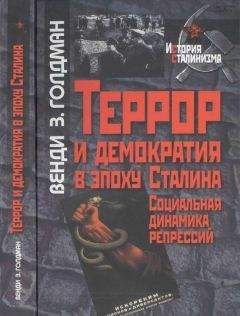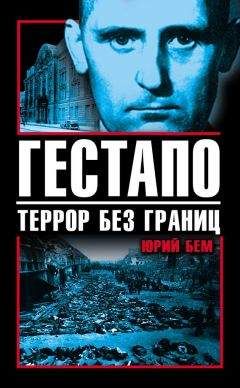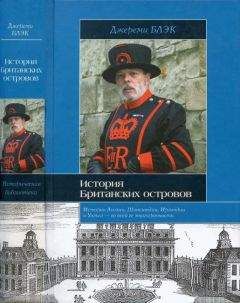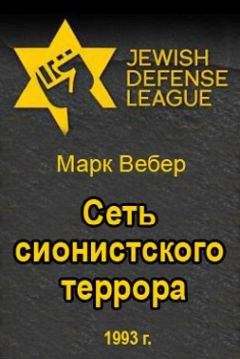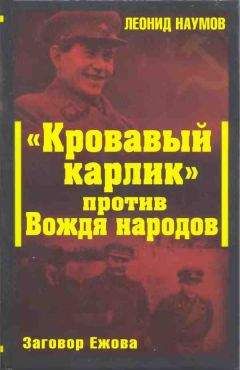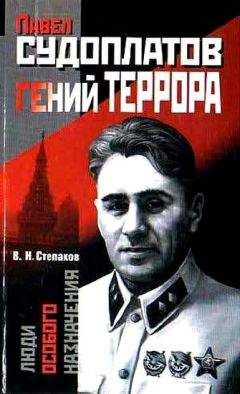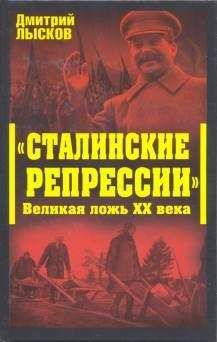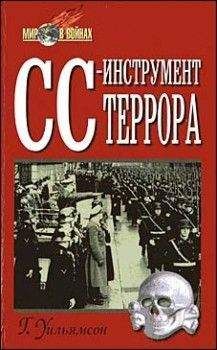Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора
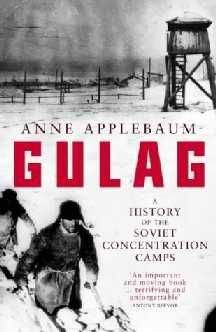
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Паутина Большого террора"
Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.
Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…
Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.
Хуже приходилось осужденным за «контрреволюционную деятельность» (КРД). Еще хуже — отправленным в лагерь за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» (КРТД). Добавочное «Т», как правило, означало, что человека могут поставить только на тяжелые «общие работы» (лесоповал, работа в шахте, строительство дорог), особенно если срок составляет 10–15 лет или больше[1011].
Но и это было еще не самое худшее. Ниже КРТД стояли КРТТД, осужденные за «контрреволюционную троцкистско-террористическую деятельность». «Я знал случаи, — пишет Лев Разгон, — когда дополнительное „Т“ появлялось в формуляре во время очередной генпроверки, в результате ссоры с нарядчиком или начальником УРЧ [учетно-распределительной части] из блатных»[1012]. Разница в одной букве могла означать разницу между жизнью и смертью, поскольку лагернику с шифром КРТТД не полагалось ничего, кроме самого тяжкого физического труда в штрафном лагпункте.
Подобные правила, однако, не всегда были четкими. На практике зэки постоянно взвешивали возможные последствия своего приговора, пытаясь понять, как он скажется на их жизни. Варлам Шаламов пишет о том, как однажды ему в лагере улыбнулась удача: его отправили на фельдшерские курсы. Но его охватило беспокойство: «Принимают ли пятьдесят восьмую? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый — „аса“. Литер: „антисоветская агитация“. Приравнивается к десятому пункту»[1013].
Место «политического» в лагерной иерархии определял не только приговор. Хотя «контрики» не имели такого, как у блатных, кодекса поведения и особого жаргона, нередко они рано или поздно примыкали к тем или иным внутрилагерным группировкам. Эти «кланы» политических формировались ради товарищества, ради взаимной защиты или по общности мировоззрения. Они не были четко очерчены — перекрывались друг с другом и с группировками бытовиков — и возникали не в каждом лагере. Но когда они существовали, то могли иметь для заключенного жизненно важное значение.
Самыми фундаментальными и в конечном счете самыми мощными «кланами» политических были те, что формировались на основе национальности или места происхождения. Их роль резко возросла в военные и послевоенные годы, когда намного увеличилось количество арестованных иностранцев и представителей нацменьшинств. Землячества образовывались естественным порядком: прибыв в лагерь, заключенный немедленно принимался искать сородичей — эстонцев, украинцев или даже (в единичных случаях) американцев. Уолтер Уорик, один из «американских финнов», попавших в лагеря во второй половине 30-х, в воспоминаниях, написанных для своей семьи, говорит о том, как объединились в его лагере финноязычные заключенные, чтобы защититься от грабежа и бандитизма уголовников: «Стало ясно, что если мы хотим хоть немного покоя, надо объединиться против них. И мы создали группу взаимопомощи. Нас было шестеро: два американских финна… два финских финна… и два финна из-под Ленинграда…»[1014].
Национальные землячества различались по характеру. Например, есть разные мнения о том, была ли своя группировка у евреев, или они вливались в общую русскую массу (а когда стало много евреев из Польши — в общую польскую массу). Ответ, судя по всему, зависит от периода, и во многом — от личных пристрастий и взглядов. Многие из евреев, арестованных в конце 30-х в ходе репрессий против партийных и военных руководителей, считали себя в первую очередь коммунистами, а евреями лишь во вторую. Как писал один бывший заключенный, в лагерях все стали русскими — и кавказцы, и татары, и евреи[1015].
Но во время Второй мировой войны, когда, наряду с поляками, в лагеря стали прибывать евреи из Польши, у них начала возникать некая этническая общность. Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, описывает один лагерь, где начальником швейного цеха — вожделенного, по гулаговским меркам, места работы — был еврей Либерман. «Когда в лагерь прибывала новая партия, он обходил строй, спрашивал: „Евреи есть? Выходи. Евреи есть?..“». Всех евреев он старался устроить в свой цех, спасая от тяжелых общих работ. Он даже изобрел способ помочь двум раввинам, которым по религиозному закону не полагалось работать — можно было только молиться. Для одного Либерман «сделал гардероб. Прибил доску с гвоздями, огородил ее и внутрь посадил старого раввина. Так тот и просидел весь срок у пустой вешалки…». Другому он придумал должность «контролера по качеству». Раввин ходил вдоль конвейера, улыбался и молился про себя[1016].
Особенно тяжело пришлось евреям в начале 50-х, когда государственный антисемитизм, выразившийся, в частности, в «деле врачей», которые якобы пытались убить Сталина, достиг пика. Но и в эти годы в разных лагерях уровень антисемитизма, судя по всему, был разным. Еврейка Ада Пурыжинская, арестованная в разгар «дела врачей» (ее брата расстреляли за «подготовку убийства Сталина»), вспоминала:
«Я не так уж очень ощущала, что я еврейка, не могу сказать, что меня за это травили».
Но еврей Леонид Трус, арестованный примерно в то же время, рассказывал, как один старый зэк избавил его от нападок ярого антисемита, осужденного за спекуляцию иконами. Старый зэк сказал: «Насчет Христа чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, ты же здесь христопродавец, торговал этим Христом, иконами…». И это разрядило обстановку.
Трус счел необходимым не пытаться скрывать, что он еврей, наоборот, на валенках, чтобы они не потерялись, он нарисовал шестиконечную звезду. В его лагере «евреи, как и русские, ни в какую группу не объединились». Из-за этого, говорит Трус, «самое тяжелое, что было для меня… это одиночество, оттого что я еврей среди русских, все спаяны земляческими отношениями, а я совершенно один».
Западноевропейцам и североамериканцам, оказавшимся в ГУЛАГе, из-за малого их числа трудно было создавать сильные землячества. Да и как они могли бы помочь друг другу? Многих лагерная обстановка привела в полное смятение, русского языка они не знали, пища для них была несъедобна, условия жизни — невыносимы. Вот что пишет о Владивостокской пересылке Нина Гаген-Торн: «…если в бараках привычные советские люди — они могут выдержать пищу из соленой рыбы, даже если она тухловата. Когда прибыл большой этап из арестованных иностранных членов III Интернационала — вспыхнула сильная дизентерия. И началась борьба с ней: внесли кипяченую воду в баки, которые стояли внутри бараков.
Осыпали хлоркой дырки уборных. Поставили бачки с дезинфекционным раствором. Но немки все равно умирали»[1017]. Жалеет иностранцев и Лев Разгон: они,
«попав к нам, так и не могли ничего понять, ассимилироваться, попробовать прижиться. Они лишь инстинктивно жались друг к другу…»[1018].
Но арестанты с Запада, в частности, поляки, чехи и другие восточноевропейцы, имели и некоторые преимущества. Порой они становились предметом особого интереса и чуть ли не восхищения: люди завязывали с ними знакомство, подкармливали их, относились к ним по-доброму. Поляк Антони Экарт, учившийся в Швейцарии, получил должность в больнице усилиями санитара Аккермана, уроженца Бессарабии:
«Мое западное происхождение упростило дело» —
человек с Запада всех интересовал и все хотели ему помочь[1019]. Шотландка Флора Липман, чей русский отчим уговорил ее семью переехать в СССР, развлекала соседок по бараку национальной одеждой и песнями:
«Я поддергивала юбку выше колен, чтобы она выглядела как шотландская юбочка, чулки приспускала до уровня колен. На шотландский манер набрасывала на плечи одеяло, из шапки делала горскую меховую сумку. Когда я пела „Annie-Laurie“ и „Ye Banks and Braes o’Bonnie Doon“, мой голос звенел от гордости. А кончала всегда гимном „Боже, храни короля“ — без перевода»[1020].
Экарт пишет о том, как он стал «предметом любопытства» для зэков из советской интеллигенции: «На специально организованных, тщательно законспирированных сходках я рассказывал тем, кому можно было доверять, о своей жизни в Цюрихе, Варшаве, Вене и других западных городах. Мой женевский костюм спортивного покроя и мои шелковые рубашки подвергались пристальному исследованию — они были единственным вещественным свидетельством высокого уровня жизни за пределами коммунистического мира. Некоторые не верили мне, когда я говорил, что спокойно мог позволить себе все это на жалованье младшего инженера на цементном заводе.
— Сколько у тебя было костюмов? — спросил меня один агроном.
— Шесть или семь.
— Да врешь ты все! — воскликнул молодой человек лет двадцати пяти. Затем он обратился к другим: — Долго мы еще будем слушать эти байки? Всему есть предел, мы не дети.
Мне трудно было убедить их в том, что на Западе рядовой человек, уделяющий некоторое внимание своей внешности, покупает несколько костюмов, потому что одежда сохраняется лучше, если ее время от времени можно менять. Советскому интеллигенту, который редко имеет более одного костюма, нелегко было это понять»[1021].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Паутина Большого террора"
Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"
Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.