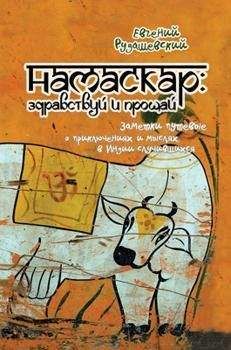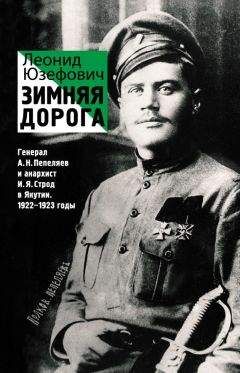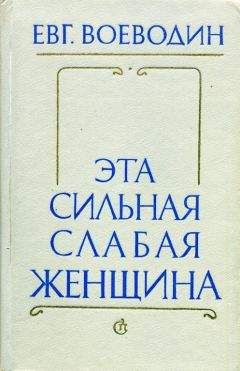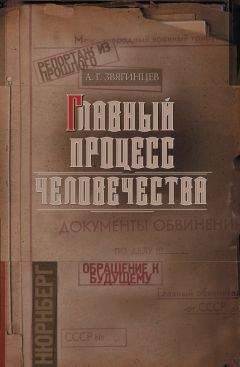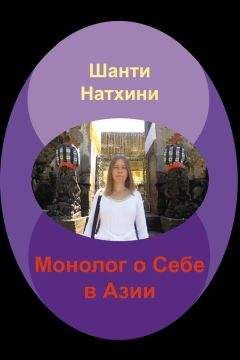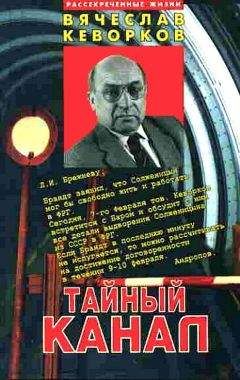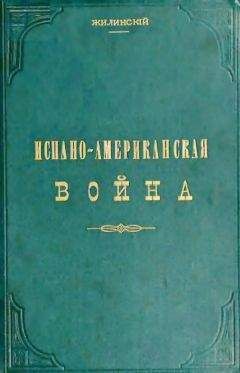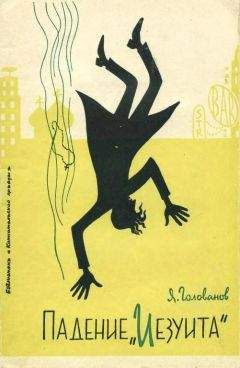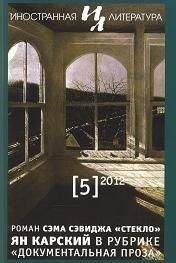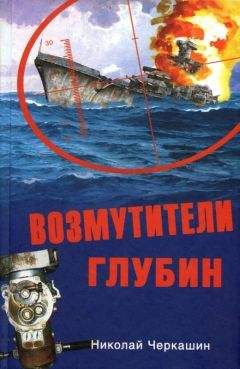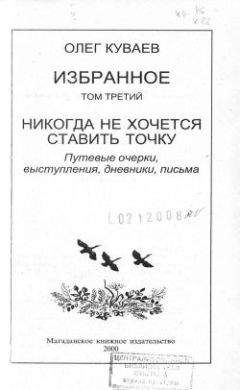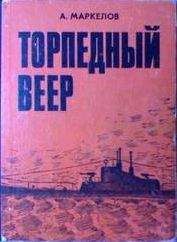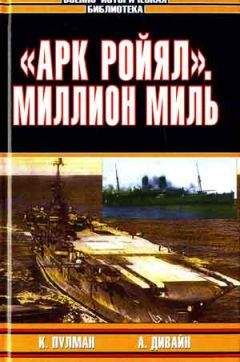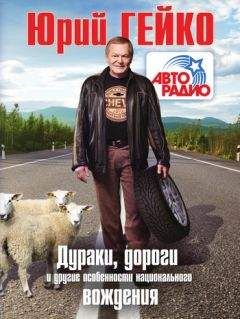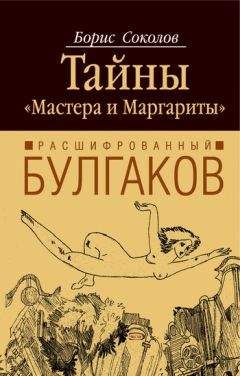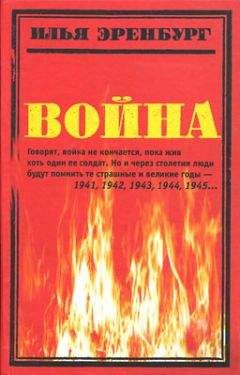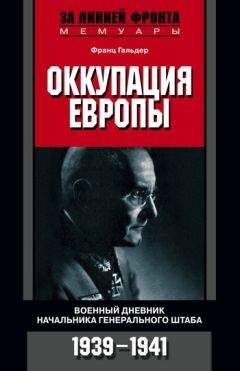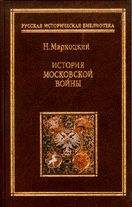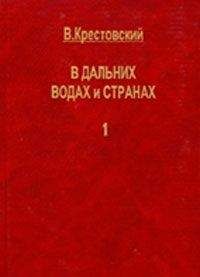Всеволод Крестовский - В дальних водах и странах. т. 2
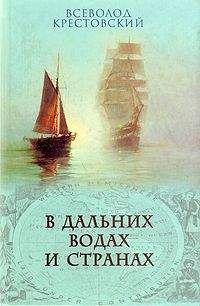
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "В дальних водах и странах. т. 2"
Описание и краткое содержание "В дальних водах и странах. т. 2" читать бесплатно онлайн.
Всеволод Владимирович Крестовский — известный русский писатель XIX века, автор романа «Петербургские трущобы» — книги о «сытых и голодных», «авантюрного романа» в шести частях, где он впервые, задолго до М.Горького, изображает героев столичного «дна». Писатель оставил богатое наследие: романы, повести, отдельные рассказы, многочисленные переводы, дневники и путевые заметки, изобилующие многими контрастами как в стиле, так и привязанностях. Был также широко известен как талантливый военный журналист.
Предлагаемые читателю путевые заметки В.В.Крестовского «В дальних водах и странах» — подробный отчет (несмотря на некоторые сокращения, не повлекшие полноты восприятия) участника экспедиции адмирала С.С.Лесовского и его штаба из Одессы в далекие Японию и Китай через Босфор, Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан. В произведении раскрылся недюжинный талант писателя как наблюдательного путешественника, обладающего образным языком, талантливого бытописателя.
Показ методы преподавания, конечно, не ограничился бы тремя начальными классами, если бы нам не предстояло еще многое осмотреть в городе, тогда как времени на это имелось только один день, да и тот прескверный, благодаря снежно-дождливой погоде; поэтому мы поспешили поблагодарить директора за его любезность.
Показ методы преподавания, конечно, не ограничился бы тремя начальными классами, если бы нам не предстояло еще многое осмотреть в городе, тогда как времени на это имелось только один день, да и тот прескверный, благодаря снежно-дождливой погоде; поэтому мы поспешили поблагодарить директора за его любезность и, откланявшись, поехали в ткацкую школу.
Это последнее заведение учреждено специально для молодых девушек, и все обучение в нем ограничивается одним только ткацким делом. В очень чистеньком японском домике устроены контора и выставка школы, где всегда можно видеть образцы ученических работ по которым какой-нибудь фабрикант-наниматель, имеющий надобность в ученой мастерице, наглядно может судить о степени знания и искусности каждой из учениц кончающих курс обучения в этой школе. Открытая галерея ведет из конторы в двухэтажный длинный барак, в помещении которого сосредоточены все отделы обучения, начиная с сортировки и чески хлопка, сученья ниток, их окраски и проч. Мы застали в бараке до пятидесяти молодых девушек (ученицы все приходящие), которые пряли на деревянных станках, под руководством двух учительниц и мастеров, из коих один руководил отделом пряжи. Хотя школа легко могла бы обзавестись усовершенствованными станками американской конструкции и паровиком для приводов, но работа в ней производится исключительно на деревянных японских станках, приводимых в действие нажатием ноги, и это потому что школа преследует не индустриальные цели, а имеет задачей только научить небогатых девушек прясть и ткать тем хозяйственным способом каким придется им работать у себя дома, удовлетворяя потребностям своего семейства. Поэтому в школьной мастерской производятся преимущественно бумажные материи, обыкновенно употребляемые людьми небогатыми и простонародием; искусство же выделывать дорогие шелковые и парчовые ткани преподается только желающим посвятить себя специально этому ремеслу, и такие ученицы обыкновенно поступают потом мастерицами на частные ткацкие фабрики, которыми, между прочим, славится Нагойе. Мы видели здесь два такие заведения, — одно на 150, другое на 170 станков занятых исключительно женщинами, и второе из этих заведений выпускает одних лишь бумажных материй на 30.000 иен ежегодно.
Обе ткацкие фабрики помещаются в нескольких длинных холодных бараках или, вернее сказать, сараях с земляным полом. В пасмурные зимние дни, чтобы дать более света необходимого при работе, раздвигают створчатые ширмы, заменяющие с одной стороны наружную стену, и таким образом мастерицам приходится работать на открытом воздухе, несмотря на зимний холод. Но Японцы этим не смущаются: они все очень привычны к холоду и переносят его куда лучше нас, северных жителей. Наши крестьянки при такой температуре, полагаю, едва ли были бы в состоянии заниматься подобною работой. Но это еще что! При тканье работница все же имеет некоторый моцион, производя механически непрерывное движение ногой и руками, что в известной мере поддерживает внутреннюю температуру тела на той высоте при которой внешний холод менее ощутителен, а вот, например, работа эмальера или живописца по фарфору при таких условиях является просто изумительным делом. С особенным любопытством посетили мы два заведения этого рода, и вот что видел я в мастерской где занимались разрисовкой фарфора. Привезли нас в довольно поместительный домик зажиточного горожанина, ничем по наружности не отличающийся от множества ему подобных. Входим в прихожую. Здесь, расположась в углу на циновке, сидел на корточках старичок, буддийский монах, с бритою головой, окруженный несколькими фарфоровыми ступками и мисками, и растирал в мельчайший порошок различные краски при помощи длинного, толстого пестика. Старичок с таким сосредоточенным вниманием и так усердно предавался своему делу что, казалось, будто сам обратился в какую-то растирательную машину. В следующей комнате, которую вернее будет назвать просторным и светлым сараем, где температура едва ли отличается от наружного воздуха, сидели за делом человек десять рисовальщиков. Сидят они на циновке на корточках или поджав под себя скрещенные ноги как наши портные. Пред каждым на полу же стоит несколько маленьких фарфоровых чашек с особо приготовленными составами разных красок и лежат различной величины кисти. Одною рукой рисовальщик держит у себя на колене белый фарфоровый сосуд, а другою, безо всякой поддержки и упора, выводит по фарфору тончайшие рисунки. Глядя как работают эти люди в самой по-видимому неудобной обстановке, в холодном сарае, где наш брат и пяти минут не высидит без пальто, поневоле удивляешься как это возможно работать при таких условиях! А работают. Затечет нога, рисовальщик переложит ее на другую ногу или пересядет на корточки; закоченеет рука от холода, он подержит ее минуту над хибачем, ухитрясь при этом затянуться два раза из микроскопической кизеру и выпить миниатюрную чашечку чая, и снова за работу. В особенности была замечательна работа одного юноши лет семнадцати, который выводил арабески золотого орнамента по бордюру великолепной темно-синей (ultramarine foncé) вазы. Эта работа требует такой математической точности и симметричности в малейших деталях весьма затейливого рисунка что на европейских фабриках ее не нашли бы возможным исполнить иначе как по трафарету; здесь же этот юноша выписывал кистью сложнейший рисунок на память и просто от руки, не опирая даже ребро ладони на орнаментируемый сосуд. Пред ним не лежало оригинала с которого можно было бы срисовывать, как делали некоторые его товарищи, рисовавшие цветы и пейзажи. Эта твердость руки, это отчетливое знание рисунка и самый способ рисовки поистине изумительны. Казалось бы, при таких условиях так естественно дрогнуть руке и провести какую-нибудь неверную черточку, так легко позабыть какой-нибудь маленький кудрявый завиток, пропустить невзначай какую-нибудь мельчайшую деталь, а между тем у него ничто не забыто, ничто не пропущено. В первую минуту, пока мы не пригляделись к его работе, просто глазам не верилось чтобы возможно было сделать это подобным способом. Выписывал он рисунок каким-то густым и долго несохнущим лаком цвета темной охры, а потом сухою кистью наводил на него золотой порошок, после чего лак почти мгновенно высыхал, принимая такую плотность что позолоту уже невозможно ни стереть, ни смыть, ни иным способом снять с фарфора. Не знаю, сам ли рисовальщик компоновал этот орнамент, что называется "из головы", или же воспроизводил его на память с какого-либо существующего оригинала, во всяком случае такой талант и такая память замечательны. И не думайте что этот юноша является каким-нибудь феноменальным исключением из общего уровня; нет, он просто хороший рисовальщик, какие непременно найдутся в каждой здешней мастерской, и эти люди вовсе не считают себя художниками: они простые ремесленники работающие за поденную плату. И ведь за какие ничтожные гроши (если ценить на европейскую мерку) все это делается! Лучший рисовальщик, как мне сказывали, получает за свой труд не более одного иена в день, а средняя плата от 30 до 50 бумажных центов. Но при скромных потребностях и неприхотливости этих людей, они считают такую плату вполне достаточною, а 30 иен в месяц это уже для них чуть не верх благополучия.
Рисовальщики пейзажей, цветов, животных, бытовых сцен, а также исторических и религиозных сюжетов заимствуют большую часть своих рисунков из пятнадцатитомного собрания эскизов знаменитого японского художника Гохсая или Гоксая, который и не для одних Японцев может служить достойным изучения образцом легкости, изящества и благородства рисунка. Притом же Гоксай просто изумительно разнообразен. Те украшения которые мы встречаем на рукоятках ножей и сабель, на футлярах курительных трубок (кизеру), на лучших лакированных шкатулках, на дорогих материях женских киримонов, равно как и рисунки украшающие фарфоровую и бронзовую утварь, — все это принадлежит неистощимой фантазии Гоксая, или непосредственно им навеяно. И замечательно что этот художник во всю свою жизнь не создал ничего кроме маленьких эскизов в самых легких контурах; но за то какая их масса, и что это за эскизы, что за контуры, полные жизни и художественной правды!
Чем более я приглядываюсь к разным сторонам японского творческого гения, тем более убеждаюсь как справедлив был данный мне совет не судить о японском искусстве и в особенности о живописи по тем аляповатым образцам какие попадают в Европу чрез руки разных промышленников. Действительно, произведения этого сорта та же рыночная работа и делаются нарочно для сбыта в Европу, применяясь к давно уже известным вкусам и требованиям оптовых заказчиков Жидов-Немцев и Американцев (самых безвкусных людей в мире), благодаря которым в Европе и установился совершенно фальшивый взгляд на "японщину". Для себя Японцы рисуют совсем иначе. Так, например, всем известны фарфоровые чашечки оплетенные снаружи тончайшею сеткой из бамбуковых волокон, а внутри украшенные изображением женских головок. Надо отдать этим головкам справедливость, они пребезобразны: длинный вытянутый по птичьему нос, какого в действительности у Японок никогда не бывает, две косые щелочки вместо глаз, какие если и встречаются, то довольно редко, какая-то пупочка обозначающая якобы губы и наконец, чрезмерно растянутое лицо — все это дает весьма ложное понятие как о красоте японских женщин, так и о степени уменья японских рисовальщиков воспроизводить человеческия лица. Эме Эмбер говорит, что касаясь сферы человеческой жизни, японские художники представляют типы лишенные всякой реальности, фигуры совершенно вымышленные, и что это делается по традиции вследствие известной условности и рутины, под влиянием официальной регламентации и по недостатку высшей пищи против той какую художники встречали в придворных потребностях и модах. Замечание Эмбера, если хотите, верно, но требует маленькой оговорки. Это действительно так было в прежние времена, отчасти есть и теперь, но рядом с искусством придворным, процветавшим в Киото, шло искусство так сказать мещанское, удовлетворявшее потребностям частных лиц и потому более свободное от условных форм. Образцы этого последнего искусства не составляют здесь никакой редкости; напротив, оно развивается все более и более. Японцы умеют прекрасно и вполне верно природе предмета рисовать что угодно, но умеют и утрировать, смотря по тому, чего от них требуют. Разумеется, традиция и некоторая условность, как в том, так и в другом случае играют свою роль, потому что именно они-то и дают всем японским произведениям такую своеобразность; но здесь существуют как бы две традиции или два течения: одно то, о котором говорит Эмбер (придворно-киотское), другое более свободное и более естественное, представителем которого служит Гоксай и которое, за неимением вполне подходящего слова, я не совсем точно называю мещанским (но только не в смысле европейской буржуазности). Традиция киотская проявлялась, да и доселе еще проявляется, в очень разнообразных изделиях, начиная от роскошнейших фарфоровых ваз до детских игрушек и лубочных картинок распространяемых за гроши в среде простонародья. Европейцы наиболее знакомы с рисунком киотской традиции, и считая его исключительным выражением "японского жанра", разумеется, более всего на него и кидаются, платя хорошие деньги. Удовлетворение вкусам и потребностям европейских покупщиков и оптовых заказчиков вызвало у Японцев, можно сказать, целую отрасль промышленности: они стали нарочно изготовлять в весьма почтенных количествах лубочно-рыночные вещи с киотским характером рисунка специально для вывоза в Европу. Но как в скульптуре (фрески Сиба и Оариджо), так и в живописи существует еще и другое течение, другое искусство, и искусство весьма высокое, хотя тоже не без традиции, то есть в том смысле что художественные изображения, как ясказал уже, заимствуются с известных образцов, в роде эскизов Гоксая, и почти всегда на известные темы, как, например, цветы, Фудзияма, рыбы, птицы и насекомые или бытовые сцены и типы. Эти образцы служат прототипом для различных вариаций и школой для дальнейшего самостоятельного творчества. У меня, например, есть несколько больших рисунков исполненных акварелью на тонкой, прозрачной шелковой материи; одни из них изображают бытовые сцены, другие цветы и птиц, третьи — женщин. И что это за прелестные лица, сколько красоты, сколько изящества и благородного вкуса в контурах, в подборе цветов и красок! Я не сомневаюсь что увидя произведения этого рода никто не задумается отнести их к числу оригинальных chef-d'oevr'ов, над которыми можно кое-чему и поучиться, например мастерскому уменью необычайно живо и верно схватывать моменты различных движений в полете птиц и в ходе рыбы, нередко в самых смелых ракурсах. То же самое должно сказать как относительно живописи на фарфоре, так и самой формы ваз и прочих сосудов. Тут есть тоже своя "европейская японщина", блестящая пакотилья, специально фабрикуемая для Европы, тогда как действительно хороший и в особенности старый японский фарфор является у нас большою редкостью, составляя или достояние дворцов или украшение кабинетов немногих ценителей, знающих толк в этом деле.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "В дальних водах и странах. т. 2"
Книги похожие на "В дальних водах и странах. т. 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Всеволод Крестовский - В дальних водах и странах. т. 2"
Отзывы читателей о книге "В дальних водах и странах. т. 2", комментарии и мнения людей о произведении.