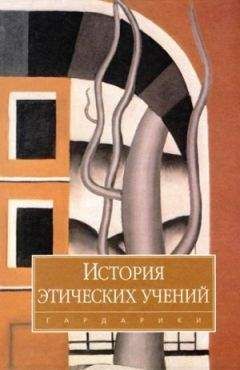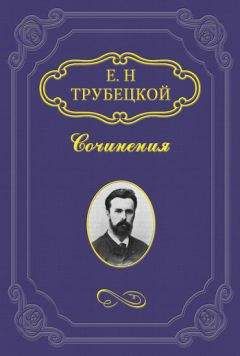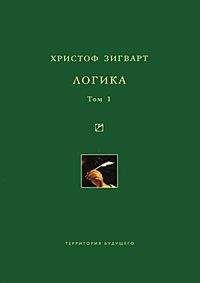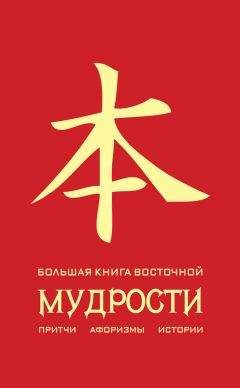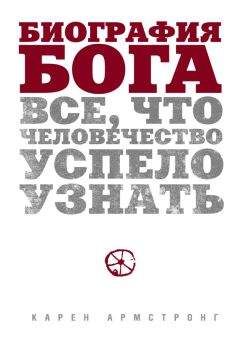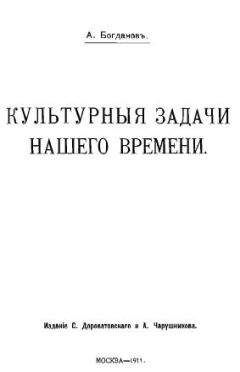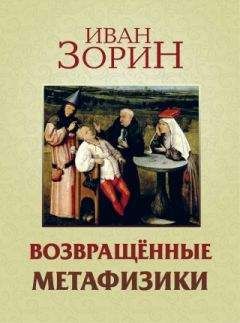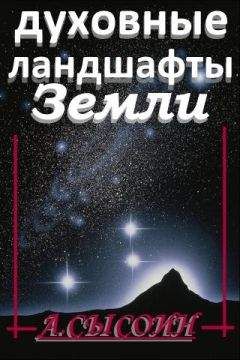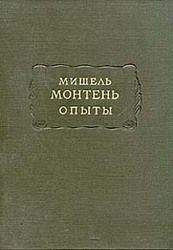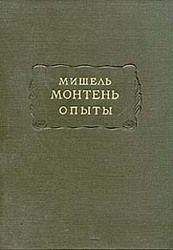Борис Кузнецов - Путешествие через эпохи
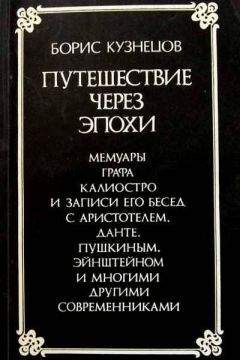
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Путешествие через эпохи"
Описание и краткое содержание "Путешествие через эпохи" читать бесплатно онлайн.
Путешествуя с графом Калиостро на машине времени, читатель встречается с великими мыслителями разных времен и эпох. Он как бы слышит их перекличку и видит живую связь времен и поколений, преемственность в развитии культуры, ее «инварианты» и специфику сменявших одна другую эпох.
Трудно изложить ответ Пушкина: это был поток неожиданных сближений и еще более неожиданных разграничений. Я могу вспомнить только собственные соображения о музыке и «алгебре», навеянные комментариями поэта к его произведению.
В сущности, Моцарт своим творчеством и своим отношением к творчеству не отрицает «алгебру». Он отрицает ее деспотическую власть над музыкой. Он защищает право на cninamen, на неожиданный, не вытекающий из «алгебры» поворот мелодии. В музыке Моцарта каждый аккорд не растворен в целом, он живет, он индивидуален, он воплощает целое, он подобен мгновению, содержащему всю симфонию, и он может стать переходом к новому целому и новой «алгебре».
Теперь я по-новому оценил моцартовскую характеристику произведения, о котором композитор рассказывает Сальери:
Представь себе… кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое…
Эти строки всегда казались мне, при всей абсолютной простоте и фантастической естественности (это сочетание слов характеризует особенность пушкинского гения!) глубочайшим проникновением в тайну творчества Моцарта. Здесь каждое слово чеканит образ композитора, проникает в глубь его творчества. Это состояние полувлюбленности («не слишком, а слегка»), как будто исключающее высокий подъем страстей, это общество красотки или друга, вводящее сцену в обыденность, это ощущение молодости и веселья, далее, этот «незапный мрак» — конкретный, чувственный сигнал космической катастрофы и это «иль что-нибудь такое…», обобщающее конкретный «незапный мрак», — все это дает самое близкое, естественно и просто входящее в душу читателя и вместе с тем самое общее и глубокое представление о связи личного, здешнего, локального существования с Космосом, с гармонией и с дисгармонией Целого.
Воссозданные Пушкиным слова Моцарта — программа этюда, который он вслед за тем исполняет. Звуки реализуют программу и вызывают очень точную характеристику, вложенную в уста Сальери: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». После Спинозы у многих мыслителей XVII–XVIII веков бог стал псевдонимом творящей природы, natura naturans, творящей по математическим формулам (так думал уже Галилей). Для музыки характерна подобная творческая деятельность, но неосознанная; вспомним еще раз Лейбницево: «Музыка — это радость души, которая вычисляет, сама того не зная».
Эти мысли о «Моцарте и Сальери», приходившие мне в голову уже давно, стали более конкретными, когда я слушал строки Пушкина, подчеркнутые интонацией автора, выражением его лица, обостряющим мысль и чувство ощущением личной встречи с поэтом. Но они ассоциировались и с другим — с воспоминанием о встрече с его героем. И здесь я не мог удержаться.
— Вы знаете, — обратился я к Пушкину, — мы можем проверить, насколько ваше представление о Моцарте и Сальери соответствует их действительным позициям. В 90-е годы прошлого века, в моем родном городе Вене жил один богатый меценат по имени Штидлиц со склонностями не столько венскими, сколько геттингенскими. Он принадлежал к типу, ставшему в наши дни очень распространенным, а тогда редкому, особенно в Вене. Штидлиц сочетал любовь к музыке с любовью к философии, любовь и интерес к Гайдну[76] с любовью к Лейбницу и Канту[77]. Он часто встречался с Моцартом и был знаком с Сальери[78]. В рукописных воспоминаниях Штидлица (они сохранились в одной частной коллекции манускриптов) имеются записи бесед с Моцартом и с Сальери, — вероятно, несколько геттингенизированные. Я имел доступ к рукописи Штидлица и с разрешения владельца коллекции выписал оттуда некоторые страницы — изложения взглядов Моцарта и Сальери. Они у меня с собой. Если хотите, прочтем их. Таким образом, мы как бы отправимся, минуя холерные карантины, из Болдина в Вену, из нашего 1830 года в 1791-й.
Сознаюсь здесь в обмане. Штидлиц действительно существовал. Но это имя носил я сам, приезжая в Вену из революционного Парижа и легко пересекая границы и поля сражений с помощью машины времени, уносившей меня в годы, когда не было ни пограничных постов, ни сражающихся армий. Правда, однажды, уходя в прошлое от передовых отрядов контреволюционной армии 1793 года, я попал на поле боя Тридцатилетней войны. После этого я стал переправляться в ХХ век, перелетая в Вену, как правило, на самолете, а затем возвращаясь в XVIII век.
Записи Штидлица — это страницы моих мемуаров, посвященных Вене 90-х годов. Их-то я и хотел прочесть Пушкину.
Нужно сказать, что записи эти немногочисленны. При всей своей общительности и при несомненном интересе к общим проблемам Моцарт в философских спорах был склонен ограничиваться краткими афоризмами, а иногда в ответ на заданный вопрос подходил к фортепьяно и говорил: «Я изложу вам это в музыке». Это были удивительные импровизации. Фортепьяно пародировало размеренную речь гелертера, затем разражалось веселым смехом, затем мощные аккорды, казалось, выражают гармонию и диссонансы мироздания, затем звучала лирическая жалоба, мелодия триумфа… Вкрапленные в реплики спора, эти импровизации становились его частью. Можно было легко перевести музыку в речь. Конечно, не полностью, всегда оставалось нечто несводимое к понятиям, эмоциональный тон мысли. Но именно такая несводимость и была основным мотивом редких словесных высказываний Моцарта.
Мне хотелось, перед тем как прочесть Пушкину записи этих высказываний, еще раз услышать их в том же контексте, вперемежку с музыкой. Поэтому, попрощавшись с поэтом, я вернулся к машине времени и вскоре был в 1791 году, в Вене.
Я снова увидел кружок музыкантов, окружавших меня, снова Штидлица, и среди них — Моцарта, сидевшего за фортепьяно и кратко излагавшего свою концепцию искусства. Кто-то в этот вечер спросил у Моцарта, как ему удается сочетать игривые и веселые пассажи с тоскливой страстью и мировой скорбью других произведений или других частей тех же произведений.
«Но ведь в таком сочетании сущность жизни», — ответил Моцарт. Я задумался над этим ответом. Мне кажется, он определяет смысл искусства. Искусство показывает вселенную через человека. Человек слышит мир, ощущает его величие и его противоречия, он слышит в музыке сфер и примиренную светлую грусть, и тяжелый, болезненный стон. Но человек не растворяется во вселенной, он противостоит ей, он смеется, он любит, он живет, он ощущает повседневные радости и повседневные горести, и он не только созерцает мир, но и изменяет его… И неожиданные игривые пассажи Моцарта в последнем счете означают эту автономию человека во вселенной, его индивидуальность, его активность…
Я не задержался в Вене, чтобы выслушать Сальери. Его реплика, записанная раньше, не требовала музыкального сопровождения. Напротив, она была логической в собственном смысле и, в сущности, очень похожей на монолог в начале пушкинской пьесы. Сальери раздражала отнюдь не смена музыкальных идеалов и норм. Он говорил: можно еще не раз сменить каноны музыки, но нельзя допустить отказа от канонов, свободы индивидуального бытия, смеющегося над канонами. Тот факт, что неканоническая музыка Моцарта гениальна, казался ему нестерпимым, победой Хаоса над Космосом, который для Сальери не воплощался в индивидууме, а царил над ним.
Когда, вернувшись в Болдино и в 1830 год, я прочел Пушкину свои записи не столько реплик Моцарта и Сальери, сколько моих впечатлений и раздумий, навеянных репликами, поэта заинтересовала близость того, что было результатом поэтической интуиции, — монолога в пьесе, и записей, в какой-то мере отражавших подлинные мнения Сальери. В этой связи у нас начался долгий разговор об интуиции как необходимом элементе познания и, соответственно, о поэзии как необходимой составляющей науки.
В этом разговоре меня поразило разнообразие научных и философских интересов и знаний Пушкина, и я спросил, почему они так мало отражаются в его творчестве, почему его поэзия в этом отношении так далека от дидактической поэзии, от Лукреция, Данте, Гете. Наличие этих интересов и знаний чувствуется, но они не излагаются, они проявляются в свободе, с которой поэт берет в случае нужды самую подходящую научную деталь для своей постройки (достаточно вспомнить прелестную в своей иронической точности характеристику физиократов в первой главе «Онегина»).
И здесь я не удержался от выдержки (без указания источника) из Хемингуэя[79]: писатель должен скрывать эрудицию, изящество движений айсберга зависит от того, что семь восьмых его объема — под водой.
— Именно изящество, — подхватил Пушкин. И он изложил следующую концепцию «подводной» научной эрудиции в поэтическом творчестве.
Изящество — это прежде всего единственность, однозначность, максимальная пригнанность каждого образа, эпизода, сцены, реплики, рифмы к целому. Никакого произвола, ни одной лишней детали, ничего, что можно было бы убрать. Как говорил Батюшков[80]: страшная сила слова, зависящая от того, что оно стоит на месте. И от того, что оно единственное.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Путешествие через эпохи"
Книги похожие на "Путешествие через эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Кузнецов - Путешествие через эпохи"
Отзывы читателей о книге "Путешествие через эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.