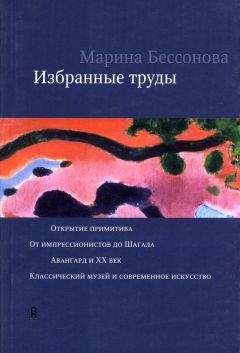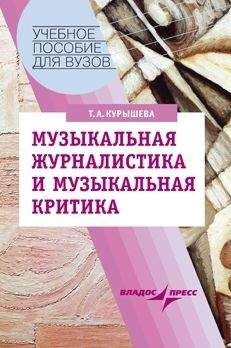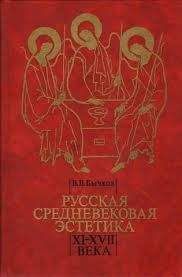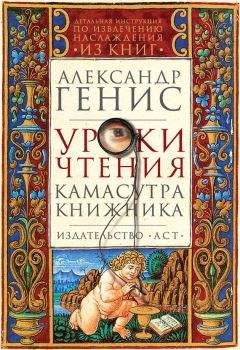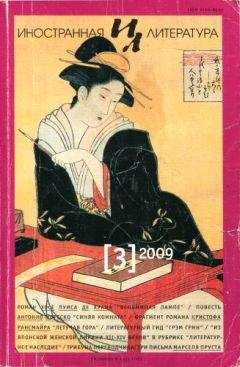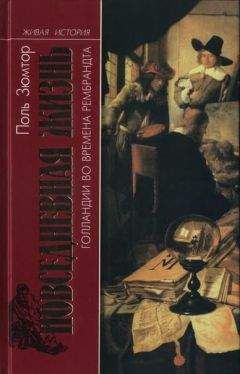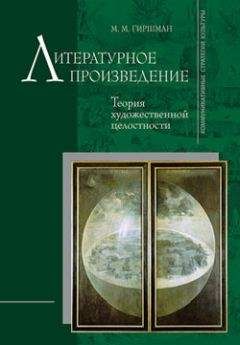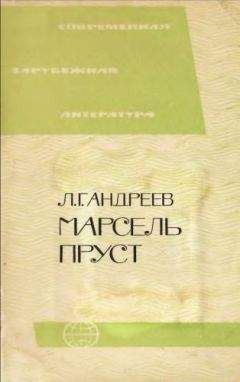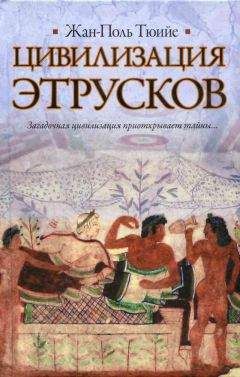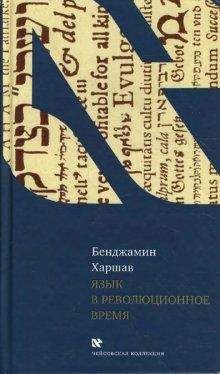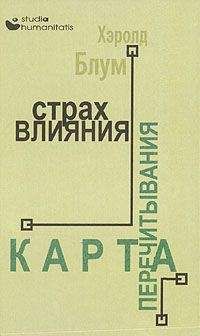Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Описание и краткое содержание "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать бесплатно онлайн.
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.
Ведь ясно, что такая деконструирующая концептуальный язык антропологическая литература, как «Второе рассуждение», не способна исчерпать проблематику фигурального языка. Повествование, сходное с «Юлией», невозможно редуцировать к притчам о наименовании. Если тематические предпочтения как-либо заявляют о себе (это только эвристическое предположение, необходимое для изложения), тогда главное отличие «Юлии» от «Рассуждения» — это присутствие на заднем плане первого текста отчетливо выраженного интереса к этике. Если во «Втором рассуждении» проблема интерпретации сводилась к поискам перехода от лингвистической структуры к политическим утверждениям, то вызов, брошенный истолкователю «Юлией», заключается в необходимости соединить фигуральный модус с этической тональностью.
Пока не признано даже обобщенное понятие самости, не говоря уже о лингвистической проблеме референциальности, критическое прочтение «Юлии»[214] порождает множество заблуждений. Я имею в виду не только прямолинейность, с которой обсуждают вопрос о том, что первично — «настоящая» переписка г-жи д'Удето и Руссо или вымышленная переписка Юлии и Сен-Пре, или размышляют о правдоподобии menage a trois в Кла- ране и выносят свое суждение о нем. Подобные проблемы настолько же достойны обсуждения, как и вопросы о том, скачет ли абсолютное «я» Фихте на коне или стоит на горной вершине и какие — карие или голубые — глаза у схематизма Канта. Чем больше Руссо стремился избежать детализации, сводя, например, отличительные физические черты к минимуму, необходимому для аллегорического обозначения[215], или избирая невыносимо однообразный эпистолярный стиль[216], тем сильнее читатели чувствовали свою обязанность заполнить образовавшиеся пустоты, бросающие вызов их фантазии, банальностями[217]. Ошибочный подход (fallacy) реалистической литературы, кажется, ослепил нас и нам не заметна фигуральная абстракция, о присутствии которой свидетельствует уже неосредневековое заглавие, хотя она вполне очевидна в произведении, у «героев» которого меньше человеческой индвидуальности, чему теологических добродетелей, пяти чувств или частей тела.
Но даже на более утонченном уровне критического познания, читая «Юлию» как роман внутреннего самосозерцания, возможно, предвосхищающий, скажем, «Адольфа», «Обермана» или даже кое- что в творчестве Бодлера или Пруста, мы все же встречаем случайные и в основном неуместные неверные прочтения. Начать с того, что такого рода прочтение рассматривает «Юлию», если оно вообще ее рассматривает, как если бы этот роман был «Исповедью» или «Reveries», а не тем, что он есть. «Поистине жаль,— пишет Бернар Гюйон, последний редактор «Nouvelle Heloise»,—что в диалогическом предисловии и даже в том, что говорится о романе в «Исповеди», [Руссо] столь определенно подчеркивает различия, отделяющие две первые части от всего остального романа» (2: xlii). Нечто от этого «il est vraiment regrettable...» встречается и не у столь наивных авторов, которым тоже хотелось бы видеть эту книгу ка- кой-то иной. Критики Марсель Раймон и Жорж Пуле[218], проницательнее других реагирующие на пленительность рефлексивного внутреннего мира Руссо, мало что говорят о «Юлии» или вообще не говорят о ней, подчеркнуто сосредоточившись на исследовании отрывков из «Reveries» и почти не обращая внимание на все остальное его творчество. Конечно, это могло бы быть вполне законным, и, более того, это соответствует воздействию Руссо на литературную линию, включающую прославленные имена: Марсель Раймон упоминает Мен де Бирана, Сенанкура, Шатобриана, Нодье, Нерваля, Мориса де Герена, Амьеля, Бодлера, Рембо, а также Жида, Пруста и Рамю[219]; говоря о «lа conscience de soi comme hantise»[220], он ссылается на традицию, которую начинать следует «точнее всего с Руссо» и которая включает в себя, «если ограничиться только романтизмом, символизмом и экзистенциализмом: Бодлера, Амьеля, Кьеркегора, Ницше, Малларме, Валери, Кафку»[221]. Многие наши предшественники склонялись к такому истолкованию Руссо, и одна из интригующих возможностей, связанных с перечитыванием «Юлии»,— это параллельное перечитывание текстов, предположительно принадлежащих к генеалогической линии, в начале которой стоит Руссо. Существование исторических «линий» прекрасно может оказаться первопричиной такого чтения, которому приходится долго объяснять, почему ему сопротивляются.
Серьезные попытки согласовать структуру и манеру выражения «Юлии» всегда стремятся к биполярному, псевдодиалектическому чтению, считая главным вопрос об определении полюсов, создающих напряжение внутри поля текста. Шиллер называет их чувствительностью [Empfindung] и силой мысли [Denkkraft] или, в контексте жанровых различий (скрыто),— идиллией и элегией[222], а это более продуктивное противопоставление, поскольку, используя свою терминологию, он обосновывает его отсутствием или присутствием референциального момента[223]. Диалектизируя Марселя Раймона, Старобинский прочитывает роман как развитие напряжения, возникающего между полюсами непосредственности (прозрачность) и опосредования (препятствие). Но какое бы имя ни присваивалось полярностям, обычно признается, что диалектическое развитие заканчивается неудачей. Напряжение, возникающее между непосредственностью и опосредованием, позволяет соотнести переживания природы с переживанием индивидуального сознания, преодолевающего ее отчуждение актом любви: «...la transparence des coeurs restitue a la nature Teclat et Tintensite qu'elle avait perdus» («...прозрачность сердца восстанавливает в природе яркость и напряженность, которые она утратила»)[224]. Оно же позволяет переходить от таких индивидуальных страстей, как любовь, к коллективному и общественному миру государства. Вот тут-то и появляются трудности, ибо политическая и экономическая теория Кларана становится помехой для каждого, кто приписывает Руссо веру в то, что политический порядок постижим, только если он допускает непосредственное присутствие сознания. Некоторые уподобляют политическую модель Кларана утопии[225] или отвергают ее как обыкновенный тоталитаризм[226]; другие, как, например, Старобинский, доблестно пытаются спасти все, что можно, но вынужденно заключают: «Жан-Жак представляется нам смятенной душой, принесенной в жертву силе амбивалентностей, а не мыслителем, постулирующим тезис и антитезис»[227]. Амбивалентность очевиднее всего в переходе от политического языка к религиозному в ходе финального столкновения веры Юлии и атеизма Вольмара, оказывающегося бегством от неразрешимых противоречий политического мира: «Земному благоденствию, которое могло бы стать „разумным" завершением «Nouvelle Heloise», Руссо противопоставляет иное, религиозное по своей природе, заключение»[228]. В рамках этого религиозного сознания сохраняется та же самая неспособность к подлинному синтезу: с одной стороны, кажется, что Юлия, как Савойский викарий (прочитанный поверхностно), отстаивает богоявление, естественную религию; с другой стороны, непосредственная встреча с Богом обещана все же в области, располагающейся по ту сторону смерти: «Следуя законам почти что манихейского дуализма, радикально отделяющего дух от природы, смерть приводит к отмене всех препятствий, исчезновению всех опосредований»[229]. Диалектика любви и диалектика политики в конце концов превзойдены религиозным опытом, который уже никоим образом не диалектичен и просто изгоняет из памяти весь предшествовавший ему опыт: «Руссо... заканчивает свой роман в отвечающей его выбору манере. Из двух абсолютных императивов — сообщества и личного спасения — он выбирает последний. Смерть Юлии обозначает этот выбор»[230]. Следствием этого выбора становится возвращение в литературу модуса августинианской исповеди. При таком прочтении «Юлия» тоже в конце концов оказывается только временной ошибкой, давно преодоленной превосходящим ее духовным опытом. Или, если утверждают, что этика политической реформы и соблазны романа постоянно искушали Руссо, то подразумевают, что ему не удалось примирить разногласия своего разума, хотя он и был вполне способен признать необходимость выбора. Быть может, поражение диалектики — не провал «Юлии», но неизбежное следствие полагания антитетической модели, не соответствующей ничему существующему. Но такой вывод вынуждает нас найти отношения, поддерживаемые, используя выражение Вордсвор- та, «иной и более прекрасной, чем контраст, взаимосвязью»[231].
В том самом месте, где Юлия говорит о встрече с Богом, встреча описывается не как откровение, но при посредстве метафоры, при посредстве удивительно неудобочитаемой метафоры чтения, которую, похоже, никому и не хочется читать. Разговор с Ним происходит не в форме восприятия («Предвечный... говорит не глазам, не слуху нашему, но сердцу»), но в форме контакта, который можно назвать непосредственным, поскольку он не подразумевает чувственное восприятие, и который оказывается «чтением»: душа умершего узнает о мыслях и чувствах живых «непосредственно, подобно тому как Господь читает мысли человека еще и в земной его жизни и читает их в ином мире, где мы встречаемся с Господом лицом к лицу» (2:728, курсив мой; 646). Примечание специально привлекает внимание к слову «читать»: «По-моему, это удачно сказано: встретиться с Господом лицом к лицу, разве это не значит — читать мысли высшего разума?»[232] Действие, которое Старобинский справедливо рассматривает как загадку всего текста (хотя кажется, что Юлия говорит о нем не так торжественно, как комментатор)[233], представлено Руссо в виде акта чтения. Все тематические проблемы произведения: отношения между любовью, этикой, политическим сообществом, религиозным переживанием и соответствующими им иерархиями,— зависят от понимания термина, значение которого, с точки зрения Руссо, вовсе не прозрачно. Что может поведать нам о проблемах чтения «La Nouvelle Heloise»?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Книги похожие на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Отзывы читателей о книге "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста", комментарии и мнения людей о произведении.