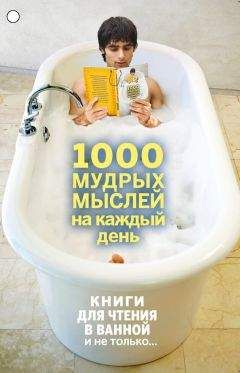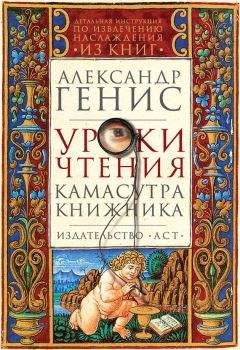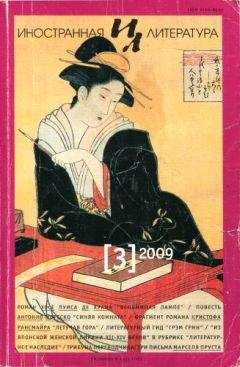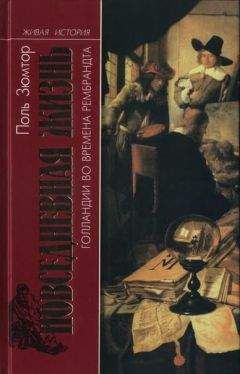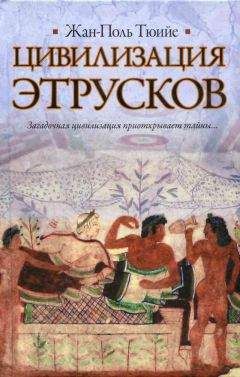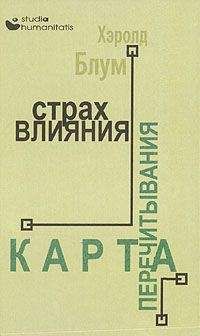Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Описание и краткое содержание "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать бесплатно онлайн.
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.
При переходе от одного раздела повествования к другому фактически происходит немаловажное изменение организующего принципа истины. Структура истины, во имя которой следует начинать оправдываться, даже в предположительном «corps defendant» Руссо не совпадает со структурой управляющего исповедью принципа истины. Она не снимает покров с состояния (state) бытия, но высказывает (states) подозрение, устанавливает возможность разногласия, способного предопределить невозможность познания. Это, конечно, разногласие между «sentiment interieur», которое сопутствует действию (или диктует его?), и самим действием. Но пространственная метафора внутри/вовне неверна, поскольку она объединяет вообще не пространственное различение. Отличие исповеди, рассказанной в модусе обнаружения истины, от исповеди, рассказанной в модусе оправдания, в том, что очевидность первой референциальна (лента), тогда как очевидность второй может быть только вербальной. Руссо может передать нам свое «внутреннее чувство», только если мы, как говорится, поверим ему на слово, тогда как очевидность факта воровства доступна буквальной проверке, по крайней мере в теории[319]. Верим мы ему или нет — неважно; важны не искренность говорящего и не легковерие слушателя, а как раз отличие вербальной очевидности от невербальной. Различие в том, что последний процесс неизбежно подразумевает момент понимания, который невозможно уравнять с восприятием, и в том, что логика этого момента, не совпадает с логикой референциальной проверки истинности. В таком случае, настаивая на «sentiment interieur», Руссо говорит о том, что исповедальный язык можно рассматривать только в двойной эпистемологической перспективе: он функционирует как проверенное референциальное познание, но он также функционирует как высказывание, надежность которого невозможно проверить эмпирическими средствами. Сочетание двух модусов не дано a priori именно потому, что возможность их несовпадения порождает возможность оправдания. Оправдание повествует о несовпадении, и тем самым в действительности утверждает его как факт (тогда как это только подозрение). Оно верит или притворяется, будто верит в то, что акт кражи ленты есть как физический факт (он взял ее оттуда, где она была, положил ее в свой карман или куда-то еще, где и спрятал), так и определенное «внутреннее чувство», которое было каким-то образом (каким именно — остается открытым вопросом) связано с ним. Более того, оно верует в то, что факт и чувство — не одно и то же. Таким образом усложнять факт — значит совершать акт. Различие между вербальным оправданием и референциальным преступлением — не просто противопоставление действия и обыкновенного высказывания о действии. Кража — действие, и она не включает в себя никаких словесных элементов. Исповедь — рассуждение, но рассуждение подвластно принципу референциальной проверки, подразумевающему внесловесный момент: даже если мы исповедуемся в том, что мы сказали что- то (а не сделали), проверка этого словесного события, принятие решения о том, истинно или ложно высказывание о нем, происходят не на словах, но на деле, когда устанавливается факт, имело ли это высказывание место в действительности. Никакая подобная проверка невозможна, если речь идет лишь о словесном (по своему произнесению, воздействию и влиянию) оправдании: его цель — не устанавливать, но убеждать, оно само по себе является «внутренним» процессом, засвидетельствовать который могут только слова. По крайней мере со времен Остина[320] хорошо известно, что оправдания — сложный вариант того, что можно назвать пер- формативными высказываниями — своеобразной разновидности речевых актов. Текст Руссо интересен тем, что он открыто функционирует как перформативно, так и когнитивно, и, таким образом, позволяет судить о структуре перформативной риторики; это высказано в самом тексте, когда исповедальное рассуждение не получает завершения и модуляция заменяет модус исповеди модусом апологии[321].
Но завершение оправдания не позволяет поставить точку в конце апологетического текста, не вняв мольбе Руссо, высказанной в конце второй книги: «Вот что я считал нужным сказать по поводу этого случая. Да будет мне позволено никогда больше к нему не возвращаться» (87; 82). И все же, почти десять лет спустя, в четвертой «Reverie» он снова рассказывает всю историю сначала, в ходе размышления о том, что может «оправдать» ложь. Апологии явно не удалось успокоить его собственное чувство вины так, чтобы он смог забыть о ней. Нам не важно, относится ли в самом деле чувство вины к этому действию или это действие совершено просто для того, чтобы заменить другое, худшее преступление или оскорбление. Оно может заменять собой целые серии преступлений, может —общее настроение виновности, и все же повторение значимо само по себе: каким бы ни было содержание преступного действия, представленное «Исповедью» оправдание не удовлетворяет Руссо, судью Жан-Жака. Эта неудача уже отчасти вписана в само оправдание, и она управляет его дальнейшим распространением и повторением.
Руссо оправдывает свою беспричинную злобу, определяя свое внутреннее чувство как стыд за самого себя, а не как враждебность к жертве: «...Присутствие стольких людей действовало на меня так сильно, что помешало моему раскаянию. Наказания я не очень боялся,— я боялся только стыда, но стыда я боялся больше смерти, больше преступления, больше всего на свете. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю; неодолимый стыд победил все; стыд был единственной причиной моего бесстыдства, и чем преступнее я становился, тем больше боялся в этом признаться и тем бесстрашнее лгал» (86; 81).
Довольно легко описать, как этот «стыд» функционирует е( контексте, который якобы предлагает убедительный ответ на вопрос, что такое стыд или, скорее, на вопрос, чего стыдятся. Поскольку вся сцена проходит под знаком воровства, она говорит об обладании, и можно понять, что описанное здесь желание, по крайней мере время от времени, притворяется желанием обладать, учитывая все коннотации этого последнего термина. Украденная у своего законного владельца лента сама по себе лишена значения и функции, и ее можно пустить в символическое обращение как чистое означающее и сделать объединяющим стержнем цепи обменов и обладаний. Переходя из рук в руки, лента позволяет проследить круговорот, обнаруживающий скрытое, цензурованное желание. Руссо идентифицирует это желание как желание обладать Марион: «У меня самого было намерение подарить эту ленту ей» (86; 81), т. е. «обладать» ею. В этом месте в предложенном Руссо прочтении собственное значение тропа достаточно ясно: лента «стоит вместо» желания Руссо обладать Марион или, что, собственно говоря, то же самое, вместо самой Марион.
Или же она «стоит вместо» свободного обращения желания между Руссо и Марион, ибо взаимность, как мы знаем из «Юлии», для Руссо является самим условием любви; она «стоит вместо» возможности заменить Руссо на Марион и наоборот. Руссо желает Марион, как Марион желает Руссо. Но поскольку в атмосфере интриги и подозрения, господствующей в доме графини де Верселис, фантазия этой симметричной взаимности переживается как запрет, ее фигура, лента, должна быть украдена, и агент этого прегрешения должен быть восприимчив к подстановкам: если Руссо вынужден украсть ленту, Марион вынуждена заменить Руссо при осуществлении этого действия[322]. Мы располагаем по меньшей мере двумя моделями происходящих подстановок (или замещений): лента замещает желание, а само желание — желание подстановки. Каждая из них управляется тем же самым желанием зеркальной симметрии, придающей символическому объекту легко обнаруживаемое, однозначное собственное значение. Система работает: «Я приписал ей то, что сам собирался сделать; сказал, что она дала мне ленту, потому что у меня самого было намерение подарить эту ленту ей» (86; 81). Подстановки происходят, не нарушая связность системы, отраженной в уравновешенном синтаксисе предложения и теперь столь же понятной, как понятно то, что лента обозначает желание. Зеркальные фигуры этого рода — метафоры, и следует отметить, что на этом элементарном уровне понимания введение фигурального измерения в текст в первый раз появляется при посредстве метафоры.
Аллегория этой метафоры обнаруживается в «исповеди» Руссо о желании обладать Марион, и если мы примем это желание за чистую монету, оно сыграет роль оправдания. Согласившись с тем, что Марион желанна или что Руссо пылает страстью, мы сочтем мотивацию воровства понятной и заслуживающей прощения. Он сделал все это из любви к ней, и найдется ли такой суровый буквалист, что позволит ничтожной собственности стать на пути юной любви? В таком случае мы вынуждены согласиться с Руссо в том, что «никогда злоба не была так далека от меня, как в ту ужасную минуту; как ни странно, но это правда. Я обвинил эту несчастную девушку потому, что был расположен к ней» (86; 81). Это и в самом деле странная подстановка (странно считать ленту человеком), но коль скоро она обнаруживает мотивы, причины и желания, странность быстро исчезает и вновь возвращается смысл. Может быть, эта история — ребус или головоломка, в которой лента должна обозначать желание, но головоломки разрешимы. Обнаружение значения отсрочено, но оно вполне возможно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Книги похожие на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Отзывы читателей о книге "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста", комментарии и мнения людей о произведении.