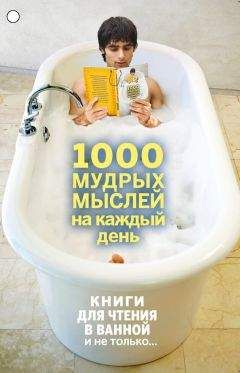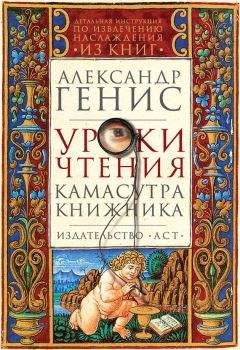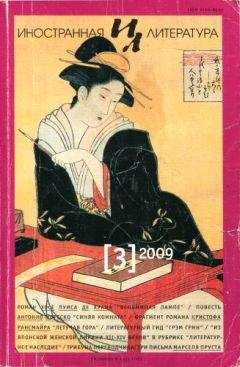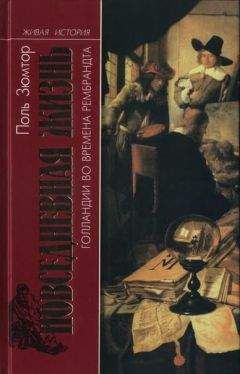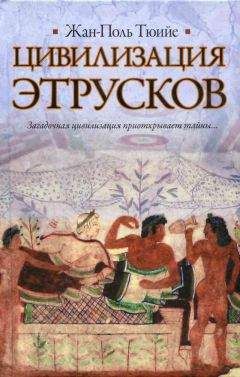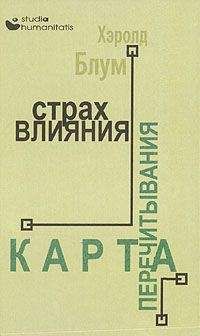Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Описание и краткое содержание "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать бесплатно онлайн.
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.
Конечно, мы пропустили при чтении другое предложение, в котором открыто использован глагол «excuser», и опять-таки в какой-то необычной конструкции; странность «que je craignisse de m'excuser» воспроизводится в еще более странном изречении: «Je m'excuserai sur le premier objet qui s'offrit»[330] («Я... ухватился за первое, что пришло мне на ум» [86; 81]), как если бы сказать «je me vengeai» или «je m'acharnai sur le premier objet qui s'offrit»[331]. Правда, предложение включено в контекст, который как будто бы согласован цепью при- чинно-следственных взаимосвязей: «...как ни странно, но это правда. Я обвинил эту несчастную девушку потому, что был расположен к ней. Я все думал о ней, и ухватился за первое, что пришло на ум. Я приписал ей то, что сам собирался сделать; сказал, что она дала мне ленту, потому что у меня самого было намерение подарить ленту ей...» (86; 81). Поскольку Руссо желает Марион, она у него на уме, и ее имя произносится почти бессознательно, как бы по ошибке, как бы придя из рассуждения о другом. Но использование словаря случайности («1е premier objet qui s'offrit») в доказательстве причинности приковывает наше внимание и разрушает истолкование, поскольку предложение сформулировано так, чтобы позволить провести полное отделение Руссо с его желаниями и интересами от этого самого имени. Марион просто оказалась первым, что пришло на ум; любое другое имя, любое другое слово, любой другой звук или шум могли бы сделать то же самое с тем же успехом, и введение Марион в рассуждение — дело случая. Она — свободное означающее, метонимически соотнесенное с ролью, которую оно должно сыграть в последовательной системе обменов и подстановок. Она, однако, находится в совершенно иной ситуации, чем другое свободное означающее — лента, которая тоже случайно оказалась под рукой, но которая сама по себе никоим образом не была объектом желания. В то же время в развитии, которое следует затем и которое вводит всю цепь, ведущую от желания к стыду, от стыда к (не)обладанию, от (не)обладания к сокрытию, от сокрытия к обнаружению, от обнаружения к оправданию и от оправдания к избирательному правосудию, Марион может быть организующим принципом, потому что она рассматривается как скрытый центр стремления обнаруживать. Она застывает в положении мишени, и это освобождает игру ее символических заместителей. В отличие от ленты, Марион сама не лишена позитивного обозначения, поскольку никакое обнаружение и никакое оправдание не были бы возможны, если бы ее присутствие в цепи не было мотивировано тем, что она —цель всей деятельности. Но если ее номинальное присутствие — просто совпадение, тогда мы входим в полностью иную систему, в которой такие термины, как желание, стыд, вина, обнажение и вытеснение, уже более не присутствуют.
Следуя духу текста, нужно справиться с искушением придавать какое бы то ни было значение всему, что звучит как «Марион». Ибо только в том случае, если инициировавшее всю цепь действие (произнесение звука «Марион») поистине лишено всякого постижимого мотива, исключительно действенной становится полная произвольность действия и осуществляется самое лучшее перформативное оправдание. Отчуждение между субъектом и произнесением тогда становится таким радикальным, что оно уже недоступно никакому модусу понимания. Когда все валится из рук, всегда можно признать себя безумным. Слово «Марион» бессмысленно и бессильно произвести само по себе цепь причинных подстановок и фигур, которая становится структурой окружающего текста, а это как текст желания, так и желание текста. Это имя находится вообще за пределами системы истины, добродетели и понимания (или обмана, порока и заблуждения), которая придает значение отрывку и «Исповеди» в целом. Поэтому предложение «Je m'excusai sur le premier objet qui s'offrit» — это анаколуф[332], здесь чуждый элемент, искажает значение, разрушает удобочитаемость апологетического рассуждения и вновь начинает то, что, казалось бы, завершило оправдание. Каковы следствия этого предложения и как оно искажает саму идею понимания, которая, оказывается, так тесно связана с перформативной функцией и зависима от нее?
Вопрос уводит нас к «Четвертой прогулке» и к ее скрытому переходу от высказанной вины к вине высказывания, поскольку здесь ложь связана уже не с каким-то прежде совершенным злодеянием, но как раз с действием написания «Исповеди» и, расширительно, со всяким писанием вообще. Конечно, и в повествовании «Исповеди», и в «Reverie» мы всегда пребывали в области письма, но тематизация этого факта не очевидна: то, что можно сказать о вмешательстве когнитивной и перформативной функций оправданий в «Четверой прогулке», распространит повсюду (disseminate) то, что было небольшим разрывом в «Исповеди».
Даже учитывая всю сложность небрежного, переменчивого и подчиняющегося логике свободных ассоциаций модуса «Reverie», поневоле поражаешься тому отсутствию завершенности, которое позволяет себе этот текст. Он выдержан в тоне пиетистского самоанализа, и его самообвинения звучат достаточно сурово и строго, чтобы придать вес снятию обвинений с автора, которое он и производит, пока Руссо не отказывается признать снятие обвинений в предпоследнем абзаце, объявляющем вину «непростительной» (1038; 610). Существует также странное неравновесие между направленностью доказательства, которое производится при помощи тонких различений и логических рассуждений, и направленностью примеров, которые совсем не соответствуют заявленному намерению. Утверждается, например, что Руссо пропустил в «Исповеди» отдельные эпизоды потому, что они показывали его в слишком выгодном свете; когда некоторые из этих случаев затем рассказываются, для того чтобы сделать искаженный портрет более точным, они оказываются удивительно неуместными. Они не показывают Руссо в благоприятном свете (поскольку он всего лишь ^называет имена своих товарищей по играм, случайно поранивших его, от объявления которых он бы в то время мало что выиграл), и более того, это крайне неприятные истории о физическом насилии, кровавых увечьях и сломанных пальцах, рассказанные так, что боль и жестокость запоминаются куда лучше добродетели, которую они предположительно иллюстрируют. Все это соединяется с какой-то жутковатой ненормальностью слегка горячечного текста, вовсе не контролирующего воздействие, которое он стремится произвести.
Следствия необдуманной лжи в эпизоде с Марион («je m'excusai sur le premier objet qui s'offrit») в «Четвертой прогулке» распределены по всему тексту. Перформативная способность лжи как оправдания сильнее подчеркнута здесь и в особенности связана с отсутствием референциального обозначения; она также носит в этом литературном контексте более знакомое и уважаемое имя, поскольку теперь ее зовут вымыслом (fiction): «Лгать без выгоды и ущерба для себя и другого — не значит лгать: это не обман, это вымысел» (1029; 601). Понятие вымысла вводится подобно оправданию непродуманности в «Исповеди». Внутри герметически закрытой системы абсолютной истины она производит почти неощутимую трещину чисто беспричинного, того, что Руссо называет «ип fait oiseux, indifferent a tous egards et sans consequence pour personne...» («факт ничтожный, во всех отношениях безразличный и ни для кого не имеющий никакого значения» [1027; 599]). Едва ли такие «совершенно бесплодные истины» вообще доступны восприятию, и мы вряд ли обладаем необходимым критерием, для того чтобы авторитетно решить, появятся ли высказывания, до такой степени лишенные всякого значения. Но хотя текст не решает этот вопрос, он тем не менее функционирует так, как если бы вопрос был решен позитивно. Утверждается, что даже если такие истины бывают «rares et difficiles», «истину» «бесполезных фактов» можно пропустить, не солгав: «Истина, лишенная какой бы то ни было, хотя бы только возможной полезности, не может быть должной [une chose due], и, значит, тот, кто умалчивает о ней или скрывает ее, не лжет» (1027; 599). Более того, «можно, не совершив несправедливости, умолчать о ней и, не солгав, прикрыть ее: ибо я установил, что такие случаи действительно существуют» (1028; 601). Некоторые речевые акты (хотя лучше было бы их назвать актами молчания) поэтому вырываются из закрытой системы, в которой истина — собственность, а ложь — кража: «Что же касается истин, не имеющих никакой полезности ни для познания, ни для практики,— каким образом могут они быть благом обязательным [un bien du], раз они вовсе даже не являются благом и раз собственность основана на полезности, и, значит, где отсутствует возможная полезность, там не может быть и собственности» («Оu il n'y a point d'utilite possible il ne peut у avoir de propriete» [1026; 599]). Если допустить такую возможность, эти беспричинные «истины» или «факты», совершенно лишенные ценности («Rien ne peut etre du de ce qui n'est bon a rien» [1027])[333], будут восприняты как «полезные» для оправдания приукрашиваний и преувеличений, невинно добавленных к «Исповеди». Это просто «details oiseux», и чтобы называть их ложью, нужно, как выражается Руссо, обладать «совестью, более взыскательной, чем моя» (1030; 603). Тот же самый абзац называет эти невесомые, воздушные не-субстанции выдумками: «Но все, что, будучи противным истине, ни в какой мере не затрагивает справедливости,— есть лишь выдумка; и я признаюсь, что всякий, кто упрекнет себя за чистую выдумку, как за обман, обладает совестью, более взыскательной, чем моя» (1030; 603). Выдумку делает выдумкой вовсе не полярность факта и представления. Выдумка не имеет ничего общего с представлением, но является отсутствием всякой связи произнесения и референта, вне зависимости от того, какая это связь — причинная, кодированная или контролируемая другим постижимым и систематизируемым отношением. В выдумке, воспринятой таким образом, «тесная связь» метафоры метонимизирована до катахрезы, и выдумка становится разрывом референциальной иллюзии повествования. Вот почему имя Марион произносится в ключевом предложении «Исповеди»: «Je m'excusai sur le premier objet qui s'offrit», в предложении, из которого следует удалить само воспоминание о всякой антропоморфной коннотации обольщения, подразумеваемой глаголом «s'offrir», если мы не хотим отменять оправдание и заменять его банальностями нечистой совести и подозрения. Что и делал Руссо, какой бы шум ни приходил ему в голову; он не говорил вообще ничего, и уж, во всяком случае, не назвал ничьего имени. Поэтому высказывание может функционировать как оправдание, подобно тому, как выдумка оправдывает искажения «Исповеди».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Книги похожие на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Отзывы читателей о книге "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста", комментарии и мнения людей о произведении.